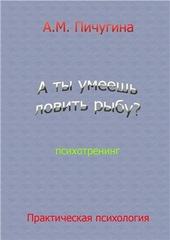Ради любви к жизни
Во имя жизни. Портрет через разговор
Гитлер — кем он был и из кого состояло сопротивление, направленное против него?
Шульц: Вопрос о политическом сопротивлении привлекает все большее и большее внимание во всем мире. Противоборство принимает многообразные формы. При определенных обстоятельствах у нас есть право оказывать сопротивление, даже обязанность сопротивляться.
Ганди выявил широкий спектр теоретических возможностей и стратегических эскалации, которые затем с замечательным успехом применил на практике. Но в его случае в высшей степени ясно, что сопротивление не состояло в применении только определенных методов для получения максимального эффекта; оно также состояло в некоторой позиции, основанной на убеждении и увлекающей всего человека во всех аспектах его существования. Ганди сравнивал участников ненасильственного сопротивления с солдатами. Они должны были быть готовыми к тому, чтобы пожертвовать своими жизнями. Но их храбрость — не храбрость ради войны; это — храбрость ради мира. Их великое оружие состояло в отказе использовать оружие. Только сейчас мы начинаем постигать великий политический смысл его теории ненасильственного сопротивления. Гитлер не столкнулся с чем-либо сопоставимым с тем своевременным и тщательно спланированным сопротивлением, которое Ганди обратил против британских колониальных властей.
Но здесь мы подняли вопрос о сопротивлении Гитлеру, о том сопротивлении, которое организовалось против него, и о том, которое не приняло определенных форм. Но если мы хотим понять, что значило сопротивление ему, то мы должны сначала представить себе, что он собой представлял. Как могла политическая власть, обоснованная так иррационально, как гитлеровская, когда-либо возрасти до таких масштабов?
Если мы присмотримся к тому обилию литературы о Гитлере, которая сейчас имеется, нас поразит то, сколь мало любознательности авторы в своем большинстве проявляют лично к нему. Их объяснения его индивидуальности большей частью поверхностны, и значительное число авторов приходит к выводу, что, если бы сопротивление Гитлеру было более эффективно организовано, оно могло бы привести к успеху.
Верно ли это? Достигли ли мужчины и женщины, участвующие в сопротивлении, достаточной ясности в понимании вопроса о том, кому или чему именно они оказывали сопротивление? Была ли возможна вообще действенная оппозиция, пока имеющиеся интеллектуальные средства оставались неадекватными для постижения индивидуальности Гитлера и его политического влияния? Многие участники сопротивления понимали совершенно ясно, кем и чем именно был Гитлер. Но им приходилось иметь дело не только с отдельным человеком, но и с массовым явлением. Они увидели себя в проигрышной ситуации. Они не чувствовали, что пользуются поддержкой значительных слоев населения, которые бы так же как они понимали ситуацию. (До какой степени они, к тому же, хотели бы получить демократическую поддержку, это другой большой вопрос, рассмотреть который здесь у нас нет времени.) Они жили с беспокойным чувством, что они действовали одновременно и слишком рано, и слишком поздно. Падение Гитлера сильно запаздывало, но было ли население достаточно зрелым для политического действия без Гитлера? Это сомнение играло главную и сдерживающую роль в мышлении многих главных руководителей подпольного движения.
Профессор Фромм, в отличие от многих из своих коллег Вы в своей научной карьере рано начали агитировать за новую политическую психологию и антропологию. Перспективы, которые Вы раскрыли для оценки Гитлера, представляются мне существенными, потому что они дополняют другие точки зрения и в то же время они ставят их под сомнение.
Фромм: Кем был этот человек — Гитлер? Вопрос о том, кем является некто или кем он был, может иметь различные степени интереса для нас в зависимости от избранного лица, но это уместный вопрос, чтобы его можно было задать о ком-либо. Кем является он? Кем являюсь я? Существуют ли окончательные ответы на эти вопросы? Такое исследование столь же трудно в случае с Гитлером, сколь трудным оно было бы в отношении любого другого, ибо каждый индивид есть клубок мотивов, импульсов и противоречий. Наряду со всем тем, что данное лицо понимает относительно самого себя, существует еще все то, что оно чувствует и делает бессознательно, и потому мы никогда не приходим к полному ответу на вопрос: кем было, кем является данное лицо? Кем являюсь я? Но было бы ошибочным использовать это соображение как извиняющее возврат к релятивизму и утверждающее, что мы попросту никак не можем знать, кем являются другие или кем являемся мы. На самом деле мы можем знать очень многое, достаточное, чтобы служить нам для всех практических целей, достаточное, чтобы знать, станет ли кто-то благословением или проклятием наших жизней.
Имея в виду эти оговорки, я хотел бы попытаться сделать некоторые замечания об этом человек — Гитлере.
Если мы бросим взгляд на его биографию, мы сможем достаточно уверенно сказать, что со времен своего детства и в дальнейшем он жил в мире фантазии. Им овладела мания величия, которая тешила его душу и по сути дела мешала ему приспособиться к реальности. В «Майн кампф» он утверждал, что он вступил в конфликт со своим отцом, так как сам он хотел быть артистом, а его отцу хотелось, чтобы он стал государственным служащим. Но действительный конфликт состоял не в этом.
Для Гитлера и для ряда других подобных ему людей быть артистом означало быть свободным от всяких обязательств, быть свободным, чтобы следовать ни чему иному, кроме своих фантазий. Дело не представляется таким образом, что для отца Гитлера было столь уж важным, чтобы Гитлер стал государственным служащим, хотя это был вполне естественный выбор со стороны отца, ибо он сам был государственным служащим. Но отец начинал все более и более понимать, что его сын был безответственным и недисциплинированным и что он не делал ничего, чтобы выбрать для себя род деятельности или направлять свою жизнь к определенной цели. И вот Гитлер, как многие самовлюбленные индивиды, испытывал одно разочарование за другим. По мере того, как его мания величия усиливалась, пропасть между нею и его реальными достижениями разверзалась все шире. А из этой пропасти вырастали негодование, злоба, ненависть и все усиливающаяся мания, ибо чем меньшего Гитлер добивался в жизни, тем больше он предавался фантазии. Это было очевидно с его ранних лет. Гитлер отправился в Вену, провалился на экзаменах в художественное училище и затем решил испытать свои силы в архитектуре. Но для получения доступа к изучению архитектуры ему нужно было бы учится еще один год в школе. Он был неспособен это сделать, и он этого не хотел. Вместо этого он утаил от всех, включая своего лучшего друга, что он провалился на вступительных экзаменах в художественное училище, и бродил по улицам Вены, делая наброски фасадов примечательных зданий. Он думал, что таков был путь к тому, чтобы стать архитектором. Наконец, он подвизался в качестве малого предпринимателя, коммерческого художника, если угодно. Он делал, крайне педантично, копии с оригинальных рисунков и картин и никогда (или едва ли когда) не писал с натуры. Он продавал эти копии и получал небольшой, скромный доход.
По сравнению со своими грандиозными идеями о самом себе Гитлер был полным неудачником, пока не началась война. В ходе войны он «проснулся». Теперь он мог слиться с Германией и не создавать более ничего независимо. И он на деле был храбрым и находчивым солдатом. Но его начальники вскоре начали сетовать на его подобострастность в отношении вышестоящих. Таково было глубоко укорененное в нем свойство характера, которое никогда не исчезнет, даже позднее, когда он сам достиг власти и был в состоянии заставить каждого лизать его сапоги. Тогда уже над ним не было никого, кроме «судьбы», или «законов природы», или «Провидения», перед кем он склонялся бы.
Такова одна сторона индивидуальности Гитлера. Другой была его крайняя самовлюбленность, нарциссизм. Что это такое — нарциссизм? Это нечто, что все мы можем наблюдать. Это легко наблюдать в других, несколько труднее разглядеть в самих себе. Самовлюбленное лицо считает реальными и важными лишь те вещи, которые касаются непосредственно его особы. Мои идеи, мое тело, мое достояние, мое мнение, мои чувства — все эти вещи реальны. А то, что не является моим, — это нечто призрачное, что едва ли вообще существует. В патологических случаях нарциссизм может проявляться в столь крайней форме, что индивид не способен даже воспринимать то, что происходит в окружающем мире. Гитлер оставался нарциссистом всю свою жизнь. Его никогда не интересовало что-либо, кроме самого себя. К тому, что касалось его матери или его друзей, он оставался безразличным, почти бесчувственным. Фактически у него не было друзей; он жил совершенно изолированно от других; он заботился только о самом себе, своих планах, своей власти, своем волеизъявлении.
Может быть, самой важной характерной особенностью Гитлера была некрофилия. Это любовь к тому что мертво, к разрушению, ко всему, что не является живым. Некрофилия — сложный предмет, и я не могу углубляться в него, касаясь подробностей. Но, возможно, мне удастся надлежащим образом подметить, к чему она ведет. Существуют люди, которых можно охарактеризовать, сказав, что они любят жизнь. Но существуют и другие, о которых можно сказать, что они ненавидят жизнь. Людей которые любят жизнь, легко распознать. И нет ничего более привлекательного, чем этот род любящего человека, относительно которого мы замечаем, что он любит не только нечто одно или кого-то одного, но что он любит жизнь. Но существуют люди, которые не любят жизнь, которые более склонны ненавидеть жизнь, которых привлекает неодушевленное, а, в конечном счете, смерть.
Шульц: Но, в таком случае, как стало возможным, что некрофилическое влияние Гитлера не возбудило большего сопротивления, чем это имело место, большего отвращения, большего отвержения? Не указывает ли это отсутствие отрицательной реакции на то, что некрофилия была широко распространена среди населения, хотя бы в некоторой скрытой форме? Должен был существовать некоторый род связи некоторые общие узы, даже сотрудничество между Гитлером и теми, которые следовали за ним, соглашались с ним и подчинялись ему.
Фромм: Ответ на этот вопрос на самом деле достаточно сложен. Прежде всего, существовало сильное сходство между характером Гитлера и характерами его фанатичных приверженцев. Если мы рассмотрим эту группу людей с точки зрения социологии и социальной психологии, то обнаружим, что наиболее ревностные национал-социалисты вышли из среды мелкой буржуазии, т. е. из класса, который потерял надежду, был преисполнен негодования и по природе своей питал садомазохистские наклонности. Этот род людей насмешливо характеризовался как «тип велосипедиста», ибо такие индивиды кланялись в пояс перед вышестоящими и пинали ногами нижестоящих. Эти люди не находили ничего, что сохранилось бы в их жизни как достойное любви и интереса, и потому они обратили свою энергию на обретение власти над другими и даже на саморазрушение.
Следующий пункт, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что Гитлер был актером. Он был таким превосходным актером, что он мог заставить людей поверить, что его целью было спасение и благополучие Германии. Он делал это столь искусно, что миллионы людей поверили ему и просто игнорировали истину. Гитлер обладал неправдоподобным талантом обращать себе на пользу человеческое легковерие. Назовите это харизмой, гипнозом, демагогией или чем угодно. Он, по-видимому, обладал властью над людьми, которая пробуждала в них готовность подчиняться ему (во многих сообщениях упоминается о том, что люди покорялись его взгляду). Этот механизм действовал, примерно, таким вот образом: сначала, люди каким-то образом подчинялись ему, а затем они готовы были верить всему, что он говорил. Он однажды сказал самому себе, что митинги следует проводить по вечерам, когда люди утомлены. Это делает их более доверчивыми, и они будут оказывать меньшее интеллектуальное сопротивление тому, что им говорят. Все эти факторы, взятые вместе, позволили Гитлеру навербовать верных последователей, которых он обманывал, ибо он скрывал от них свою разрушительную природу. Такие насчитывались миллионами, и они не понимали, каковы были его реальные цели. Они бежали за ним, словно крысы за сказочной флейтой, не понимая, куда он их ведет.
Шульц: С одной стороны, он был совратителем, Он был некто, кто явился «свыше». Он был также тем, кого называют «сильным человеком», который обещал не только разрешение проблем, но также спасение. С другой стороны, как мне представляется, он явился «снизу», или, по крайней мере, низы сделали возможным его возвышение. Он был продуктом ожиданий и условий. Мне кажется, что любой сильный человек, с этой точки зрения, является слабым человеком. Он обязан своей силой стечению обстоятельств, которое сделало его представителем многих других. Сила, которая принимает форму сопротивления, — это сила совершенно иного порядка. Гитлер, возможно, был абсолютно неспособен к сопротивлению в том смысле, о котором здесь речь. Или я ошибаюсь в этих вещах? Меня заинтересовало это странное соотношение между «вождем» и теми, которых он ведет к цели или уводит от нее.
Фромм: Я думаю, что Вы абсолютно правы. Гитлер относился к тому типу вождей, которые нуждаются в поддержке масс, чтобы чувствовать себя сильными. Он не был таким деятелем, который мог бы разрабатывать и продвигать идею без поддержки сопровождающих его оваций. Он нуждался в аплодисментах и жаждал энтузиазма окружающих, чтобы пережить ощущение своего собственного самоутверждения. Его чувство власти питалось реакцией тех людей, к которым он обращался с речью. Это было ясно с самого начала? в маленьком первоначальном кружке, состоявшем из двадцати одного человека, которые образовали Национал-социалистскую рабочую партию в Мюнхене. Подобно всем нарциссистам, он был настолько увлечен самим собой, что всякое произносимое им слово казалось ему содержащим величайшую мудрость и истину. Но он нуждался в других, которые поверили бы в него раньше, чем он сам смог поверить в себя. Если бы никто помимо него самого не поверил, он оказался бы на пороге сумасшествия, ибо его идеи вырастали не из рационально обоснованных убеждений, а из его эмоциональных потребностей. Они опирались на чувство своего величия и власти, но, как мы видели, он нуждался во внешнем подтверждении своего величия и власти. Если отнять у него эти овации и успех, тогда то, что осталось, представляло бы собой индивида на пороге безумия. Я не хочу сказать, что он был сумасшедшим. Он таким не был. Но чтобы сформулировать проблему в крайней форме, лучше сказать, что он защищал себя от безумия, рассматривая миллионы своих приверженцев как подтверждение своей здравости и реальности своих идей. Для него истинность его идей доказывали именно овации, а не внутренняя последовательность самих этих идей. Гитлер никогда не проявлял ни малейшего интереса к тому, что есть истина.
Как и любого другого демагога, его интересовало только то, что приносило аплодисменты, ибо аплодисменты — это как раз то, что делает вещи истинными.
Шульц: То, о чем Вы сейчас говорили, могло бы послужить ценными направляющими принципами для оценки любого политика. Но я опасаюсь, что нам предстоит еще долгий путь до политической зрелости, которая привьет нам иммунитет против иллюзий, иммунитет против психологического порабощения такого рода. Но теперь, профессор Фромм, вернемся к нашему первоначальному вопросу: каким могло бы быть сопротивление, массовое неповиновение, восстание против индивида такого типа, какой Вы только что здесь охарактеризовали?
Фромм: Задумаемся на минуту над этим словом «сопротивление». Сопротивляться — это значит «выступать против чего-либо», и для того, чтобы сделать это, мы должны сами представлять собой нечто. Лишь в этом случае нас не так легко обмануть или подавить. Наоборот, мы способны протестовать, отвергать, сопротивляться. Но для того, чтобы мы были в состоянии сделать это, мы должны осознать, что когда мы восстаем против «вождя» подобного Гитлеру и его политики, мы имеем дело не просто с определенными политическими взглядами на то, что всего лучше будет способствовать благополучию Германии, но с компонентами характера и эмоций, по сути дела с философскими и религиозными компонентами, которые пронизывают эти взгляды.
Конечно, Гитлер говорил, что он желал наилучшего для Германии. Кто не хотел бы этого? Но он не говорил, что одной из его целей было разгром и завоевание других стран. Он говорил лишь об оборонительных мерах, которые обеспечат условия, при которых Германия могла бы процветать. Если мы примем это утверждение в качестве чисто политического, то все, что мы сможем сказать о нем, это: «Очень хорошо, я думаю, что это правильно и как раз то, что надо делать», или: «Я думаю, что это ошибочно и этого не следует делать». «Я думаю, что эти средства годятся». Или: «Я думаю, что они непригодны». Проблема остается такой, какая поддается рациональной оценке, сравнимой с той оценкой, которую мог бы сделать бизнесмен. Но если мы осознаем, что все это лишь «рационализация», как она определена глубинной психологией, и что эти видимо рациональные аргументы ни в коем случае не раскрывают возникающих при этом проблем, то в этом случае мы можем понять, что гитлеровская идеология есть выражение и результат некрофилической и садомазохистской индивидуальности того типа, который я только-что обрисовал. Нам приходится заглядывать за рациональные формулировки и обращать внимание не столько на то, что политический лидер говорит, сколько на то, как он это говорит. Нам приходится изучать его мимику, его жестикуляцию, всего человека. Только таким способом можем рассмотреть, к какому типу индивидуальности относится это лицо. Лишь в этом случае мы можем распознать, что этот вождь является некрофилом, индивидом, которого мы отвергаем всей глубиной наших сердец, таким субъектом, который приводит нас в ярость, с которым мы не хотим иметь ничего общего, к которому никогда не можем испытывать расположения, ибо все наши силы направлены на сохранение жизни и достоинства человека, его свободы. В отличие от этого все силы некрофила направлены на разрушение, на порабощение других, на принижение их, на утверждение своего господства над ними. Нам следует прекратить прислушиваться к одним лишь словам и начать раскрывать, кем и чем является человек, который высказывает эти слова. Каковы его природа, его характер?
Нам следовало бы также обратить внимание на то, что в случае с Гитлером, как и в столь многих других случаях, нам приходится иметь дело не только с политикой в практическом смысле этого слова, но также с философией, с религией, если хотите. Каждый человек религиозен в широком значении этого, т. е. у него имеются цели, выходящие за рамки простой необходимости зарабатывать на жизнь, он обладает кругозором и чувствами, которые побуждают его стать чем-то более значительным, а не быть машиной для еды и воспроизводства. Но в наши дни эти импульсы обычно не принимают традиционные религиозные формы, а часто диктуются в сфере политического и экономического мышления и планирования. Единственная проблема здесь в том, что мы упускаем из виду, что мы все еще имеем дело с религиозными импульсами. Если мы спросим себя, какова была религия Гитлера, ответом будет: обожествление национального Я, господства, неравенства, ненависти. Ему была свойственна языческая религия власти и разрушения. Это была более чем просто языческая религия. Это была наиболее крайняя форма антитезы религии христианства или иудаизма, гуманистической традиции. Или, выражаясь несколько отличными словами, можно сказать, что в некотором смысле религией Гитлера был социал-дарвинизм. Он был привержен принципу, что хорошо то, что служит совершенствованию, расы. Человек действует уже не во имя Бога, не во имя справедливости, не во имя любви, но во имя эволюции. Известно немало людей со времен Дарвина, которые приняли социал-дарвинизм в качестве своей новой религии. Принципы эволюции — вот новые божества, а Дарвин — новый пророк! Возможно, что единственная вещь в которую Гитлер истинно веровал, так это то, что он действовал во имя законов эволюции, законов биологии и осуществлял эти законы.
Этот род мышления был присущ не одному только Гитлеру. Он также обнаруживается в писаниях Конрада Лоренца об агрессии. Центральная философская идея Лоренца состоит в том, что мы должны служить законам эволюции. В 1941 г. Лоренц собрал подобные идеи воедино в эссе, в котором он восхвалял ряд гитлеровских законов, касающихся расовой гигиены, утверждая, что для них имеются научные основания.
Итак, остается вопрос: можем ли мы распознать философские, религиозные и психологические факторы, которые фактически лежат в основе политических формулировок? Обладаем ли мы способностью различать, что заявления и декларации, претендующие на то, что имеют целью лишь наилучшее, являются выражением особых психических и философских характеров? Возьмем то, что, может быть, представляет собой наиболее известный пример, — Французскую революцию. Свобода, равенство и братство — таковы были принципы, которые воодушевляли людей этого времени, принципы, которые, возможно, очень глубоко укоренены в человеческой природе, в природе всего человеческого существования. Некоторые нейрофизиологи полагают, что эти принципы даже проистекают из строения человеческого мозга. Свобода является необходимостью, если мы хотим, чтобы человеческий организм функционировал в полную меру своих способностей. Эти идеи не только выражали политическую линию французских революционеров, но были продуктом философии Просвещения, философии, которая запала глубоко в сердца огромного числа людей. Исторические обстоятельства подвели этих людей к такому моменту, когда они осознали эти человеческие требования и сформулировали их. Подобным же образом нарциссизм Гитлера был религией, которая имела в точности противоположные цели, и вот почему она привлекала людей совершенно иного рода.
Шульц: Возможно, будет уместно проиллюстрировать этот пункт в более конкретных словах, припомнив стычку Мольтке и Фраслера в Народном суде. Суть того, что сказал Мольтке в своем заключительном слове, сводится к тому, что национал-социализм и христианство и впрямь имеют нечто общее, но именно этот фактор разделял их и делал врагами: они оба требовали полного согласия.
Фромм: Вот именно. Мольтке в ситуации крайней опасности суммировал в этом одном кратком предложении то, что я пытался здесь высказать во многих предложениях. Он попал прямо в сердцевину проблемы и выразил ее с большой точностью.
Щульц: Мольтке сделал много замечательно ясных и нестандартных утверждений такого рода. Его политическое мышление было весьма земным, и он показал себя в значительном числе случаев в высшей степени практичным, и все же он всегда рассматривал индивидуальное человеческое существо как фокус политических интересов. Взгляды Мольтке на общественное образование находились под сильным влиянием Ойгена Розеншток-Хюсси, который полагал, что высшая проблема в политическом воспитании состояла в том, кем мы являемся, а не в том, каковы наши политические взгляды или к какой политической партии мы принадлежим, Это не был популярный взгляд в его время, он и сейчас непопулярен, ибо был ложно истолкован как сугубо личное мнение. Но если рассматривать его в контексте данной Вами интерпретации, он представляется в высшей степени соответствующим нашей цели. Сопротивление Гитлеру, сопротивление, которое большей частью никогда не было оказано, должно было быть не простым словесным протестом, а, скорее, жизнью, прожитой как акт протеста. Но жизнь как протест — это не то, что предназначено профессиональным политикам. Это, так сказать, работа не для профессионалов, а работа для каждого. Проводили ли профессиональные психологи какие-нибудь исследования, которые могли бы подкрепить это утверждение?
Фромм: Кем является то лицо или это лицо? Каков его характер? Эти вопросы представляют не только моральный и психологический интерес, но также очевидный политический интерес. Всякий, кто отказывается видеть это, определяет рамки политики слишком узко. Какова была характерная ориентация большинства немцев? Представляли ли они собой почву, на которой могло прорасти семя, посеянное
Гитлером, или это была засохшая и неблагоприятная почва для этого семени? В 1931 г. я присоединился к некоторым свои коллегам во Франкфуртском институте социальных исследований для изучения этой самой проблемы. К сожалению, результаты этой работы никогда не были опубликованы. [Позднее данное исследование было опубликовано под названием «Рабочий класс в веймарской Германии» издательством Harvard University Press.]
Вопросы, которые мы поставили перед собой, таковы: Каковы шансы эффективного сопротивления Гитлеру, если он будет продолжать удерживать власть? Насколько сильное противодействие окажет ему большинство населения, особенно те люди, мнения которых враждебны ему, т. е. рабочие и в значительной мере техническая интеллигенция? Мы избрали способ изучения вопроса посредством характерологического анализа, в котором мы имеем дело вовсе не с самим Гитлером, но для начала обратились к задаче определения авторитарного характера. Авторитарный характер обладает структурной предрасположенностью повиноваться, подчиняться, но он также обладает потребностью господствовать. Оба эти аспекта всегда сопутствуют друг другу, один служит компенсацией другому. Подлинно демократический или революционный характер представляет собой как раз нечто противоположное: это отказ от господства, а равно и подчинения господству над собой. Для демократического характера равенство и достоинство человека представляются глубоко прочувствованными императивами, и такие характеры привлекает лишь то, что утверждает человеческое достоинство и равенство.
Наша теоретическая посылка состояла в том, что то, что человек думает, это сравнительно маловажно. Обычно это дело простого случая и зависит от того, какие лозунги этот человек слышал, к какой партии его склонили присоединиться семейные традиции или социальные условия, с какими идеологиями ему приходилось знакомиться. Он думает приблизительно то же самое, что думают другие, а это признак склонности к конформизму и к утрате независимости. То, что человек думает, следовательно, мы назвали мнением. Мнение можно легко изменить. Мнение остается тем же самым, лишь пока обстоятельства остаются теми же самыми. Если позволить себе здесь отступление, то я заметил бы, что в этом величайший недостаток всех выборов путем голосования, которые определяют всего лишь мнения. За рамками таких выборов остается вопрос: каково бы было ваше мнение завтра, если обстоятельства стали совершенно иными? Но в политике именно это имеет силу, и вопросом первостепенной важности является не то, что кому-то случалось думать в данный момент. Важно то, как этот человек живет и действует. А то, как он живет и действует, будет зависеть от его характера. Если мы поставили вопрос таким образом, мы увидим, что нуждаемся в ином понятии, в том, которое Вы упомянули раньше. Это понятие — убеждение. Убеждение — это мнение, которое укоренилось в характере человека, а не только в его голове. Убеждение есть продукт того, чем он является. Мнение же часто основано лишь на том, что он слышит. И, таким образом, мы пришли к выводу, что лишь те люди, убеждения которых были несовместимы с системой террора, а не те, мнения которых противоречили ей, могли бы оказать ей сопротивление. Иными словами, лишь те — люди, которые сами обладали неавторитарными характерами, отважились бы на выступление и сопротивление и не были бы одурачены.
Шульц: Подход, выбранный Вами в Вашем исследовании, удивляет меня, и трудно представить, чтобы этот подход мог когда-либо найти свое место среди преимущественно количественных методов, применяемых на выборах в наши дни. Но ведь вопросом о характерах пренебрегают не только исследования общественного мнения. Наши так называемые политическое образование и информация также не интересуются ничем, кроме «мнения».
Фромм: Таково, к несчастью, величайшее упущение большинства исследований политических позиций и всех наших усилий в, области политического образования. Не принимается в расчет характерологический и, если угодно, философский и религиозный фактор, который неизбежно присутствует в любой политической жизни. Другое понятие, которое было подчеркнуто, прежде всего, марксистами, касается политики как выражения экономических и классовых интересов. Марксисты всегда готовы подчеркнуть преимущество этого аспекта политики перед тем, который лежит на поверхности, и я думаю, что в целом они поступают правильно, делая это. Но существует нечто, чего не хватает марксистам, их концепции. Мы должны принимать во внимание не только экономические и социальные мотивы, но также всевозможные эмоции, самые разнообразные духовные возможности, раскрывающиеся в людях, какой бы тесной их связь с социоэкономическими факторами ни была.
Иными словами, люди не действуют сообразуясь с одним только экономическим интересом. Они также исходят из внутренних потребностей, чувств, целей, которые глубоко укоренены в «человеческом факторе», в данных человеческого существования. Я думаю, что нам необходимо тщательно ознакомиться с обоими этими факторами — с экономическими мотивами и теми, которые являются специфически человеческими, если мы хотим понять, почему люди действуют политически тем или иным способом. Оба фактора присутствуют в «социальном характере».
Эта сфера являет собой обширный пробел в наших познаниях. Психология как наука к ней не обращалась. И политическая наука в общем и целом все еще задерживается на поверхностной, рационалистической ступени исследований, которая, по-видимому, предполагает, что та роль, которую эмоции играют в политике, не может быть предметом эмпирического исследования.
Но если мне будет позволено вернуться к нашим исследованиям во Франкфурте, то первое, что мы начали делать, — это определение доминирующей характерологической направленности германских рабочих и служащих. Мы разослали 2000 человек анкету, содержавшую множество подробных вопросов. Около 600 из этих анкет были возвращены, что вполне соответствовало нормальному проценту возвратов при таких опросах в это время. Наши вопросы не повторяли широко распространенную форму, обычно используемую в таких опросах, при которой за вопросом следуют ответы «да», «нет», «полностью согласен», «согласен отчасти» или «совершенно не согласен». Ответы выписывались индивидуально тем или другим интервьюером или опрашиваемым лицом. Затем мы анализировали ответы тем способом, каким анализирует ответы психиатр или психоаналитик на сессии. Что говорит о бессознательном этот ответ в отличие от того, что думает пациент сознательно? И мы нашли, что если мы анализируем каждый ответ таким образом, то несколько сотен ответов дадут нам картину не только того, каковы сознательные мысли людей, но также того, каковы их характеры, что они любят, что у них вызывает отвращение, что их привлекает, что они хотят видеть упроченным, что они осуждают и хотят видеть устраненным.
Возьмем, например, такой вопрос: «Является ли физическое наказание существенным в детском воспитании?» Один человек ответил «да», другой — «нет». Эти отдельные ответы не сказали нам многое об индивидуальных характерах. Но если кто-то говорит: «Нет, это не подходящее средство, ибо оно ограничивает свободу ребенка, а ребенка нужно научить не испытывать чувства страха», то мы читаем этот ответ как характеризующий неавторитарную личность. Если кто-то другой сказал: «Да, ибо ребенок должен научиться бояться своих родителей и быть послушным», то мы истолкуем этот ответ как признак авторитарного характера. Однако нельзя делать выводы, подобные этим на основании единственного вопроса и ответа. В наших анкетах содержалось по нескольку сот вопросов, и мы сами были удивлены, обнаружив, насколько четко в каждом опросном листе проступили стойкие психологические характеристики. После того, как были прочитаны ответы на десять вопросов, можно было угадать вполне точно, каковы будут остальные.
Наши окончательные результаты выглядели примерно так: около 10% людей, ответивших на вопросы анкеты, обладали авторитарными характерами. Мы предположили, что они должны были стать ярыми нацистами незадолго до или вскоре после того, как Гитлер захватил власть. Другие 15% обладали антиавторитарными характерами, и наше теоретическое предположение состояло в том, что они никогда не станут нацистами. Обладают ли они смелостью, чтобы рисковать своей жизнью и свободой, — это другой вопрос, но они навсегда останутся страстными противниками нацистской политики и идеологии. Огромное большинство, 75%, обладали смешанными характерами, что часто имеет место в среде буржуазии. Они были ни явно авторитарными, ни явно антиавторитарными, но обнаруживали некоторые признаки обеих тенденций. Наши предположения о них состояли в том, что они были людьми, которые не станут ни ревностными нацистами, ни бойцами сопротивления, ибо их характеры не обладали достаточно ясной выраженностью той или иной направленности. Они, вероятно, последовали бы за толпой с различными степенями энтузиазма или отвращения.
Хотя мы не обладаем детальной информацией, которая свидетельствовала бы о том, какой процент германских работников — синих воротничков и белых воротничков — стали нацистами, а какой процент участвовал в сопротивлении фашизму если не на деле, то хотя бы в душе, я предполагаю, что значительное число осведомленных людей согласится с тем, что цифры, установленные нашим исследованием, достаточно точно отражают действительное положение дел. Лишь сравнительно небольшое число германских рабочих участвовало в сопротивлении. Еще меньшее число встало на сторону нацистов. Огромное большинство не сделало ни того, ни другого. И поэтому сопротивление оказалось неэффективным. Предсказание, которое мы сделали на основе теории, было, конечно, существенным для оценки политической реальности и видов Гитлера на успех. И мы можем сделать то же самое в любой стране и в отношении любого населения, если мы станем спрашивать о том, что люди чувствуют и чем они являются, а не только о том, что они думают. Если мы только уловили это различие между убеждением и мнением, мы можем доказать его существование эмпирически и на основе конкретного социоаналитического исследования.
Шульц: Вы упомянули о том, что результаты Ваших исследований не были опубликованы после его завершения. Почему так?
Фромм: Они не были опубликованы, ибо руководители института не хотели, чтобы они стали достоянием общественности. У меня имеются некоторые соображения по поводу того, почему они этого не хотели, но этот вопрос уведет нас слишком далеко в сторону, если мы будем его здесь обсуждать.
Шульц: Очень может быть, что дело было в опасениях и в осторожности. Это ретроспективно вызывает сожаление, так как опубликование результатов могло бы повлиять на изменение сознания.
Фромм: Совершенно верно. Но результаты остались под замком. В некоторых сообщениях об истории института утверждалось, что данное исследование никогда не было осуществлено. Но эти утверждения ошибочны. Оно было осуществлено, и с документацией, касающейся его, все еще можно ознакомиться.
Шульц: Осуществляются ли сейчас какие-либо сопоставимые с ним исследования?
Фромм: Я не знаю о каких-либо подобных. Мой коллега Майкл Маккоби и я применили те же самые принципы в исследовании, которое мы провели в небольшой мексиканской деревне. (Опубликовано в III томе собрания трудов Эриха Фромма под названием «Психоаналитическая характерология в теории и практике: социальный характер одной мексиканской деревни». Штутгарт, 1981 — Прим. пер.). Это исследование было посвящено не только «авторитарным» и «неавторитарным» характерным признакам, но также и другим характеристикам. Та же методология была применена и весьма успешно подкреплена в исследовании, которое Майкл Маккоби провел о различии между некрофилами и биофилами в различных социальных классах в Америке. Но она не была воспроизведена и развита далее где-либо еще.
Шульц: Профессор Фромм, каким образом мы могли бы стать лучшими судьями человеческих характеров в сфере политики? Большинство из наших политиков вряд ли проявят особое стремление к усовершенствованиям в этом направлении, но мне представляется существенным для блага демократии, чтобы мы становились проницательнее в оценке людей, которые появляются на нашей политической сцене. Телевидение позволяет нам пристально вглядываться в их лица, следить за их жестами и угадывать то, что скрыто за их словами. Нам надо научиться распознавать действительные мотивы за всеми словесными заверениями, которые мы слышим. Как могли бы мы этого достичь?
Фромм: Это принципиальный вопрос, особенно при демократии. Как можно помешать тому, чтобы демократия пала жертвой демагогов? При демократии предполагается, что каждый человек сам выносит свое суждение. Но как люди могут выносить свои суждения, если они пользуются только тем, что говорят политики? Конечно, у них есть еще нечто, чем можно воспользоваться. Избиратели схватывают очень многое подсознательно и формируют суждения о кандидатах — об их честности или лживости, искренности, соответствии приличиям или уклончивости. Мы знаем, что это так в Соединенных Штатах и, без сомнения, это так и в Германии. Но необходимое умение нигде, хотя бы в известном приближении, не получило достаточно высокого развития.
Существуют многие предпосылки, необходимые для функционирования демократии, и я не собираюсь касаться их всех здесь. Но мы можем сказать, что демократия будет в состоянии функционировать должным образом лишь в том случае, если люди смогут разбираться в том, каковы доминирующие устремления и чувства того или иного политика, какой его философский и квазирелигиозный характер, скрывающийся за его политическими установками и мнениями. А это означает, что нам сначала предстоит разучиться кое в каком отношении. Нам следует разучиться от практики подчеркивания того, что говорит то или иное лицо, и нам надо научиться видеть этого человека в целом.
Интересно заметить, насколько искусны мы в этом вопросе, когда речь заходит о нашей деловой жизни. Если нам предстоит нанять кого-либо или вступить с ним в партнерские отношения, мы обычно не настолько глупы, чтобы только выслушивать то, что этот человек говорит нам о себе. Мы хотим составить себе представление о его личности. Чем более эгоистичны наши интересы, тем более мы осторожны и тем с большей готовностью мы составляем характерологические суждения. Но когда дело касается наших социальных и политических интересов, мы не хотим беспокоиться. Мы предпочитаем, чтобы нас вели, а сами отсиживаемся в задних рядах. Мы хотим, чтобы существовал кто-то, кто говорил бы нам то, что мы желаем слышать, который угождал бы нам и которого мы именно за это награждали бы, и поэтому мы не приглядываемся к нему пристально и не интересуемся тем, кто он таков. Однако мы можем глядеть пристально. Мы можем научиться этому в естественной лаборатории, которая доступна для всех: для детей, подростков или взрослых. Это лаборатория нашего повседневного опыта. Мы можем узнавать там буквально обо всем. Все, что от нас требуется для этого, — это желание видеть. Известную пользу может принести также чтение, хотя вызывает сожаление, что психология, особенно академическая психология, которая накопила такое большое количество выдающихся достижений, не оказалась слишком плодотворной в сфере общественной и политической. Характерология, наука о характере, принципиально важная по своей сути для политики, для построения брачных отношений, дружбы и для образования, все еще имеет сравнительно малое значение в области психологии, даже несмотря на то, что она имеет гораздо большее отношение к жизни, чем большинство открытий академической психологии. Эти открытия иногда обладают выдающимся теоретическим значением, от них часто бывает удручающе мало пользы для нас, когда, мы обращаемся к непосредственным, практическим проблемам жизни.
Шульц: Я надеюсь, Вы меня извините, если я привлеку свою собственную профессию к нашему разговору (если я, возможно, в огромной степени преувеличиваю ее влияние), но Не должны ли мы, журналисты, если это не свойственно никому другому, обладать определенной компетенцией в характерологии так, чтобы хотя бы некоторые их нас могли бы ее применять и публично развивать критические перспективы и критерии, которые необходимы, чтобы мы могли освободиться от иллюзий, когда оцениваем нашу политическую ситуацию и все остальные процессы и изменения, которые касаются всех нас?
Шульц: Да, конечно. Это было бы желательно. Но существует нечто, о чем не следует забывать: применение характерологии требует смелости. Достаточно легко бывает сказать, что это политическое руководство и его идеи хороши и помогут всем нам. Но заявить, что этот человек является мошенником, что его политика поведет нас по гибельному пути, что его цели противоположны тем, которые он провозглашает, что его умонастроение есть род философии и религии, которая враждебна всему, что мы почитаем за благо, — чтобы заявить все это, нужна смелость, так как все эти утверждения зачастую не так легко доказать, ибо характер может оказаться весьма сложной вещью. К тому же мы склонны полагать, что негативные утверждения являются «ненаучными» ценностными суждениями, которые не могут быть доказаны. Мы всегда готовы делать ценностные суждения в вопросах вкуса, но, поскольку дело касается личностей, люди опасаются высказывать что-либо, что похоже на ценностное суждение. Критика, объявляющая суждения людей совершенно ненаучными, подрывает их уверенность в самих себе, как будто бы утверждения о факте, которые одновременно являются ценностными суждениями, были каким-то образом ограждены от рационального анализа и обсуждения.
Шульц: Один последний вопрос, который подведет итог многому из того, что мы здесь обсуждали. Сопротивление — это название для высокого рода деятельности, такой деятельности, к какой нам надо готовиться. Но когда дело доходит до социальных и политических проблем, то в силу ряда причин мы часто сталкиваемся с такими явлениями, как пассивность, отсутствие интереса, фатализм, чувство бессилия и «отказы» как в большом, так и малом, отказы подвергаться риску и взять на себя ответственность, принимать решения и, возможно, навлечь на себя «вину». К сожалению, сейчас не время и не место обсуждать эти проблемы подробнее. Но я был бы благодарен, если бы Вы смогли высказаться кратко по вопросу о том, когда и где следует начинать сопротивление и так, чтобы оно могло стать эффективным задолго до того, как возникнет необходимость убийств.
Фромм: Если Вы начинаете свое сопротивление Гитлеру лишь после того, как он одержал победу, то Вы проиграли еще до того, как Вы начали. Ибо чтобы оказать сопротивление, Вам необходимо иметь внутренний «стержень», убеждение. Вам необходимо обладать верой в самого себя, быть способным мыслить критически, быть независимым человеческим существом, человеческой личностью, а не овцой. Чтобы достичь этого, научиться «искусству жить и умирать», требуется масса усилий, практической деятельности, терпения. Как и всякому другому искусству, и этому необходимо учиться. Всякий человек, развитие которого пойдет в этом направлении, обретет также способность постигать, что есть благое или дурное для себя и для других, благое или дурное для него как человеческого существа, а не благое или дурное для его успеха, овладения властью или вещами.
Структура нашего мозга позволяет нам осуществлять нечто совершенно уникальное: мы способны определять для себя оптимальные цели и ставить свои эмоции на службу этим целям. Всякий, кто пойдет по этому пути, научится оказывать сопротивление не только великим тираниям, подобным гитлеровской, но также «малым тираниям», ползучим тираниям бюрократизации и отчуждения в повседневной жизни. Этот род сопротивления сейчас более труден, чем когда-либо ранее, ибо наша социальная структура плодит эти малые тирании. В этой структуре человеческое существо все более и более низводится к роли винтика, нолика, фишки в бюрократическом сценарии. Нам не приходится ни принимать решений, ни брать на себя ответственность. В общем и целом, мы делаем то, для чего нас предназначила бюрократическая машина. Нам приходится все меньше и меньше думать, переживать, формировать свою собственную судьбу. Единственные веши, о которых человек еще на деле задумывается, являются продуктами его собственного эгоцентризма, и они касаются вопросов вроде того; как жить дальше? Как мне заработать побольше денег? Как укрепить свое здоровье? Они не задаются такими вопросами: что хорошо для меня как для человеческого существа? Что хорошо для нас, как для полиса — государственного сообщества? Ибо для греков и в классической традиции именно таковы были великие вопросы, на решение которых было направлено все мышление, мышление не как орудие усиления господства над природой, но мышление как инструмент решения проблемы: каков наилучший образ жизни? Что способствует росту человека, проявлению наших лучших сил?
Широко распространенная пассивность, неучастие в решениях, влияющих на наши собственные жизни и жизнь нашего общества, — вот почва, на коей могут произрастать фашизм и подобные ему движения, для которых мы обычно подыскиваем названия лишь после того, как они стали фактом.