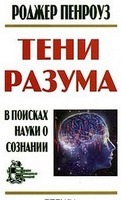Ради любви к жизни
Во имя жизни. Портрет через разговор
Шульц: Мы предлагаем вашему вниманию не интервью, а разговор двух людей — разговор, если можно так выразиться, не подготовленный заранее, без какого-либо продуманного и целенаправленного набора обсуждаемых тем или предположений, разговор ради получения удовольствия быть услышанным.
Когда я задумываюсь о том, какова же моя роль в нашем совместном начинании, мне представляется, что я — некий читатель, вместе с полюбившимся ему писателем посещающий другого читателя, которому хочется узнать об этом писателе несколько больше, чем можно о нем узнать из его произведений. Я рассчитываю услышать ваши ответы на мои вопросы — но вопросы отнюдь не судебно-следственного, а лишь направляющего характера.
Все это звучит чуточку старомодно и по-салонному, хотя в данный момент мы и находимся в современной радиостудии. Обычно здесь «просто так» не разговаривают — здесь либо дискутируют на заданную тему, либо производят, как любой другой товар, некое увеселение, предназначенное для массового потребления. Выяснение истины отнюдь не входит в задачи радиовещания. Что до нас сегодня, то решение вопроса о правде и неправде как раз и является сутью нашего разговора.
Слово «разговор» («conversation») происходит от латинского корня («conversion») «превращение», и возможность превращения, «переворота» присуща всякому истинному разговору, так как превращение является той интеллектуальной игрой, в которой целью является не победа, а изменение, игрой, в которой нет первых и последних.
Но довольно вступлений. Профессор Фромм, скажите, существует ли такого рода разговор в нашей окружающей жизни? Кто, кроме нескольких эксцентричных особ, захочет оживить нечто ненужное, к чему в лучшем случае относятся как к пережитку прошлого? Все мы свидетели полного угасания эпистолярного жанра. Удастся ли нам спасти искусство ведения разговора? Боюсь, что нет, и это представляется мне — мягко говоря — весьма плачевным.
Фромм: Я пойду еще дальше. Мне это кажется не только плачевным, но и постыдным симптомом нашей культуры, симптомом, свидетельствующем уже даже не об упадке, а о смерти. Другими словами, мы все более и более отдаемся тому, что всегда подразумевает какой-либо позитивный результат. И что такое этот результат после того, как все сказано и сделано? Деньги, слава, карьера. Мы уже даже умозрительно не можем себе представить, что можно делать нечто безрезультатное. Мы давно позабыли, что такая «безрезультатность» и «бесцельность» не только возможна в принципе, но может составлять предмет сознательного желания и даже приносить удовольствие. Одно из самых больших удовольствий на свете состоит в том, чтобы найти применение своим силам и энергии не в достижении какой-то конкретной цели, а в некоторой деятельности как таковой. Например, в любви. Любовь не подразумевает под собой никакой цели, хотя некоторые (и очень многие) могут сказать, что любовь позволяет им удовлетворять сексуальные потребности, вступать в брак, рожать детей и вообще жить нормальной добропорядочной жизнью. Якобы это и есть цель любви. Именно поэтому настоящая любовь, в которой значением, смыслом и самоцелью является сама любовь, так редка в наши дни. Ключевым моментом такой любви всегда остается не потребление, но существование. Это одна из форм человеческого самовыражения, раскрытия всех возможных и невозможных способностей. Но в нашей культурной жизни, целиком ориентированной на внешние цели, каковыми являются успех, производство и потребление, растворяется даже легкий намек на такую любовь. Процесс зашел так глубоко, что сейчас можно вообще с трудом представить саму возможность существования такого сорта любви.
Разговор же превратился просто в род товара, а иногда еще в своего рода словесную битву. Если такая битва идет в присутствии большой аудитории, то возникает полное ощущение боя гладиаторов. Каждый стремится вцепиться другому в глотку. Или же словесные противники допускают некоторые «превращения» для того, чтобы продемонстрировать, какие они умные и выдающиеся. Или же они «превращаются», потому что хотят доказать самим себе, что они опять же правы. Разговор тем самым является просто способом демонстрации истинности своих убеждений всеми возможными способами. Они вступают в разговор с установкой неприятия ничего нового. Каждый имеет свое мнение. Каждый заранее знает все аргументы противника. И каждый демонстрирует непоколебимость своей позиции.
Настоящий разговор — не поединок, но обмен. Вопрос о том, кто же из собеседников прав, просто не формулируется в своей канонической форме. Более того, совершенно несущественна порой даже исключительная обоснованность и фундаментальность самих аргументов. Главное — это подлинность самого предмета разговора. Позвольте мне проиллюстрировать сказанное на маленьком примере. Представьте себе, что два человека, двое моих коллег-психоаналитиков возвращаются вместе с работы домой, и один из них говорит другому, что он что-то устал. А другой коротко отвечает, что он тоже. Конечно, это выглядит как простой обмен банальными фразами, но это еще не все — за ничего вроде бы не значащими словами стоит то, что эти двое занимаются сходным делом, что они прекрасно представляют себе, какова на самом деле усталость другого, одним словом, они оказываются втянуты в подлинное человеческое общение. Этот короткий разговор (скорее, обмен репликами) гораздо более разговор, чем тот, в котором два интеллектуала бросаются громкими словами и брызжут слюной по поводу последней новомодной теории. Спорщики просто ведут два отдельных, ни в чем не пересекающихся и не задевающих другого монолога.
Искусство ведения разговора, удовольствие, получаемое от этого (разговор в смысле совместного бытия обычно принимает вербальные формы, но он может также принимать и форму движения в танце — существует много типов самовыражения), вновь воскреснут в нашем обществе только при условии коренного изменения нашей культуры в смысле избавления от мономаниакальной ориентации на результат.
Мы должны культивировать такое отношение к жизни, в котором самовыражение и полная реализация всех человеческих потенций признаются единственной реальной ценностью. Проще говоря, главное — быть, в противоположность иметь, потреблять и гнать вперед без оглядки.
Шульц: Теперь у нас появляется все больше свободного времени и, тем самым, возможности для разговора. Но чем более внешние обстоятельства способствуют этому, тем все менее нам этого хочется. Слишком многое мешает действительному желанию совместного бытия в разговоре, слишком много технических приспособлений вклинивается между собеседниками. Создается впечатление, что нечто мощное и всеобъемлющее предостерегает нас от того, что мы назвали здесь разговором.
Фромм: Я думаю, можно утверждать, что многие люди (возможно, даже большинство людей) просто боятся остаться наедине друг с другом, не имея какого-либо плана действий, подобного математическому алгоритму, не имея четкого предмета для дискуссии, не имея радиоприемника или телевизора. Они пугаются и теряются. Они не имеют ни малейшего представления о том, что сказать друг другу. Я не знаю, так ли это в Германии, но в Америке не принято приглашать в гости какого-то одного человека или даже одну супружескую пару. Гостей должно быть значительно больше, потому что если вас всего трое или четверо, вам грозят неловкие минуты молчания. В маленькой компании, чтобы никто не скучал, надо стараться изо всех сил, если, конечно, вы не решили проиграть все ваши старые пластинки. Если вас шестеро, то реального разговора, скорее всего, не возникнет, но, по крайней мере, вы сможете избежать болезненных пауз. Кто-нибудь всегда что-то да и скажет. Когда один уклонится от темы, другой вернет беседу в нужное русло. Это что-то типа двойного концерта — музыка никогда не кончается, но реального диалога не получается.
Я подозреваю, что масса людей считает удовольствие значимым, только если оно связано с какими-то вещными тратами. Индустриальная пропаганда приучила нас к мысли о том, что счастье исходит от вещей, которые мы можем приобрести. Лишь очень и очень немногие способны поверить в то, что можно прожить, и притом весьма счастливо, без всего этого товарного барахла. Раньше было не так. Мне сейчас семьдесят три. Пятнадцать лет назад люди, причем, люди даже с большим достатком, довольствовались весьма малым. Не было радио и телевидения, не было машин. Но зато был разговор. Конечно, если вы смотрите на разговор как на средство «развлечения», то разговор становится всего лишь пустой болтовней. Настоящий разговор не таков — он требует концентрации, сосредоточения, а вовсе не расточения всех внутренних сил. Если человек не живет внутренней жизнью, его разговор никогда не будет живым. Многие люди стали бы более «живыми», если бы не боялись «вылезти из своей раковины», не боялись бы показать, кто они есть на самом деле, не боялись бы отказаться от догматических подпорок, которые якобы предостерегают их от никчемности, если бы они не боялись находиться наедине с самими собой и с другими.
Шульц: Мы с Вами говорим по радио. Прерогатива радио и телевидения — информировать и развлекать публику. Именно эту миссию призваны охранять законы, управляющие радио- и телевещанием. С другой стороны, как Вы уже отметили и в чем никто не может сомневаться, именно радио и телевидение сыграли свою немалую роль в отмирании искусства разговора.
Фромм: Этот вопрос сильно занимает меня, и я был бы Вам очень обязан, если бы Вы поделились со мной своими соображениями по этому вопросу. Считаете ли Вы, что радио и телевидение воздействуют на человека сходным образом и выполняют сходные функции, или они все же сильно разнятся между собой?
Шульц: Мне кажется, что воздействие радио и телевидения сильно отличаются друг от друга. На сегодняшний момент все научные исследования по этому вопросу пока не дали каких-либо ощутимых результатов, поэтому я могу ответить на Ваш вопрос исключительно с точки зрения моих собственных наблюдений, впечатлений и интуитивных соображений.
Я считаю, что ни радио, ни телевидение не способствуют диалогу. Они добиваются желаемого косвенным путем, но всегда подразумевают на одном полюсе вешающего, а на другом конце — внимающего. Нет места противоречиям и возражениям. Хотя мы и имеем полную иллюзию наличия разговора, на самом деле поворотом выключателя мы прекращаем всякий подлинный разговор, являющийся прерогативой человеческого бытия. Решающим моментом является выяснение того, стимулируют ли нас радио и телевидение, бросают ли они нам вызов и призывают к преображению, или эти изобретения человеческого гения принципиально враждебны условиям существования разговора. В этой связи вред со стороны радиовещания мне представляется менее радикальным, чем со стороны телевидения.
Телевидение, как никакое другое средство массовой информации, поощряет пассивность и комфортный потребительский менталитет. Это самая удачная выдумка человечества, направленная на то, чтобы помогать нам «проводить время». Но реальный разговор как раз требует времени. В мире, где время «проводится» и «убивается», никогда не «расцвести» разговору. Радио, сколь мне видится, не обладает столь притягательным эффектом. Оно больше, чем телевидение, держит нас в состоянии «боевой готовности» духа, больше будит воображение. Оно может при желании служить неисчерпаемым источником для поддержания истинного разговора. Оно не может предложить разговора самого по себе, но вполне может подготовить почву для разговора. Оно может сориентировать нас в направлении более фундаментального способа коммуникации, концентрируя наше внимание на том восхищении, что охватывает нас в реальном — лицом к лицу — разговоре.
Фромм: Все это полно для меня глубокого смысла. Мои дальнейшие суждения на эту тему базируются на моем собственном опыте радиослушателя и телезрителя, хотя в последнем качестве я выступаю достаточно редко. Кстати, сравнивая свои впечатления с впечатлениями моей жены, я обнаружил полную их идентичность. Мне хотелось бы услышать Ваше мнение на этот счет, а также узнать реакцию наших с Вами радиослушателей на радио- и телепередачи. Я обнаружил, что когда я слушаю радио, я все же остаюсь свободным человеком. Я включаю радио, когда меня что-то заинтересовывает, но я не превращаюсь в радионаркомана. С помощью радиотехнологии я могу стать как бы свидетелем некоего разговора, точно так же, как я могу стать свидетелем чьего-то разговора по телефону. Конечно же, радиоразговор не имеет той персональной окраски, что присуща телефонным переговорам, но в данном случае мне хочется подчеркнуть то несомненно положительное, что отличает этот тип коммуникации. Радио, как и телефон, не завораживает, и можно смело сказать, что я остаюсь вполне свободным — я волен слушать его или же нет. Реакция на телевизор абсолютно другая. Телевизор превращает меня в раба. С той самой минуты, как я щелкнул переключателем и увидел изображение на экране, у меня появляется не то чтобы полная порабощенность, но, во всяком случае, довольно сильное желание посмотреть передачу, даже если разумом я точно понимаю, что передача абсолютно бессмысленная. Я далек от утверждения полной несостоятельности телевизионных программ; все, что я хочу сказать, — это то, что при наличии полного идиотизма происходящего на экране и того, что я вполне отдаю себе в этом отчет, я все же не могу побороть в себе желание досмотреть до конца.
Телевизор очаровывает сильнее радио. Причем это психологическое очарование не может быть привязано к содержанию какой-то отдельной программы. Я очень часто задавался вопросом о природе очарования, и я думаю, что истоки данного явления коренятся глубоко в недрах нашей натуры: простым нажатием кнопки мы впускаем к себе совершенно иной мир. Это пробуждает некие магические инстинкты.
С телевизором я становлюсь почти Богом. Я избавляюсь от своего привычного мира и взамен получаю новый. Я почти Бог-Творец. С этой точки зрения я вижу на экране свой мир. Все это напоминает мне одну историю, которая живо иллюстрирует мою точку зрения. Отец со своим шестилетним сыном едут на машине в ужасно дождливый день. Они прокололи шину и вынуждены были остановиться, чтобы сменить ее. Вкупе с погодой, все это оказало ужасно угнетающее впечатление на мальчика, и он сказал своему отцу: «Может, мы переключимся на другой канал?» Именно таким образом ребенку видится мир. Если он меня не устраивает, я переключусь на другой.
Моя жена недавно прочитала роман какого-то польского автора, и переданное ею содержание показалось мне необычайно поучительным. Роман повествует о сыне очень богатого и своеобразного человека. Мальчик рос в громадном пустынном особняке, не видя рядом ни одной живой души, при этом он не был научен ни читать, ни писать. Единственное, что ему было дано — это телевизор. Телевизор был включен дни и ночи напролет, и мальчик познакомился только с одной реальностью — реальностью телевизионного мира. Потом отец умирает, и сын вынужден покинуть свое уединение и выйти в открытый мир. И он никак не может понять, что он видит другую реальность, совершенно отличную от той, что он видел в телевизоре. Молодой человек все время молчит, он не знает, что говорить, потому что он вообще ничего об этом мире не знает. Все, что он может, это наблюдать, потому что для него мир не более чем телевизионное шоу. Но именно потому, что он все время молчит, а также благодаря тому, что молодой человек проникает в дом одного из самых влиятельных людей в Америке, все считают его необыкновенно значительной особой. Очень скоро его имя становится известным, и, в конце концов, он даже баллотируется в президенты, потому что он всегда молчит и вообще не имеет своего мнения ни по одному вопросу.
Эта история хорошо иллюстрирует мои мысли. Настоящая реальность и то, что мы видим на экране телевизора, становятся не отличимыми друг от друга, и мне видится, что опыт «создания» иной реальности простым путем нажатия некоей кнопки сопряжен на самом деле с глубинным атавистическим опытом, представляющимся нам ужасно соблазнительным. Вот почему телевидение не особо нуждается в «хороших» передачах. Оно апеллирует к неким природным свойствам человеческой натуры. Люди не могут оторваться от экрана так же, как не могут оторваться от созерцания пламени костра.
Шульц: — когда они могут оставаться только зрителями, не предпринимая никаких активных действий. Оборотной стороной иллюзии силы (еще бы, ведь в нашем распоряжении лишь одна кнопка) является тотальная пассивность. С радио все же остается возможность подхода к процессу слушания как к некоему отклику, как к подготовке некоторой активности, и это не следует путать с простым ожиданием просвещения.
Но теперь позвольте задать Вам другой вопрос, профессор. Вы сказали, что ничего не знаете о ситуации в Германии. Но телевидение коренным образом изменило нашу способность слушать. Телевидение отучило людей от привычки уделять внимание чему-то наполненному смыслом, мы не можем больше претендовать на то, что мы завладели вниманием наших слушателей. Я хочу Вас спросить, а не слишком ли быстро радио поддалось этой тенденции? Не слишком ли быстро оно поддалось на убеждения тех, кто доказывал невозможность завладевания чьим-то вниманием? Не должно ли было оно как-то противостоять этому давлению? Телевидение отвело радио более скромную роль, чем предназначалась для него изначально. Радио больше не является средством массовой информации, и, возможно, за это следует благодарить именно телевидение. Не должно ли радио поставить перед собой новые задачи, которые как раз и учтут те принципиальные различия радио и телевидения, которые мы только что с Вами обсудили?
Фромм: Не очень-то авторитетно могу Вам отвечать, так как я действительно недостаточно знаком с опытом Немецкого радио. Но я чувствую, что Вы попали в самую точку. Мне известно, что радио Южной Германии предлагает своим слушателям обширный курс программ, касающихся предметов, обычно преподающихся в университетах. Возможно, язык таких лекций редуцирован для широкого слушателя, но это даже к лучшему. (Было бы намного лучше, если бы университетские лекторы пользовались более простым языком, чтобы сделать свои лекции более доходчивыми.) Мне кажется, это достойная для радио задача, и благодаря такой постановке проблемы радио может сыграть значительную образовательную роль. Также важно то, что Вы говорили о концентрации. Просто потрясающе, насколько с малой концентрацией сил люди вокруг думают, живут и работают! Работа столь фрагментарна и обрывочна, что требует лишь механического и частичного сосредоточения. Очень редко встретишься с концентрацией, которая захватывает человека целиком. Рабочий на конвейерной линии, воспроизводящий снова и снова только один вид движения, нуждается только в определенном сорте концентрации, и такая концентрация в корне отличается от того собирания воедино всех человеческих сил, которое мы обнаруживаем в истинной концентрации. Истинно сосредоточенный индивид способен слушать без того, чтобы мысли его «разбегались»; он не будет пытаться делать пять дел одновременно, потому что при таком раскладе ни одно дело его не удовлетворит. Ну, и конечно, ничего не может быть доведено до конца без сосредоточенности. Все, что делается без концентрации, не имеет никакой ценности. Потеряв концентрацию, мы не сможем получить никакого удовлетворения от нашей деятельности. Эта истина справедлива в отношении каждого, а не только в отношении великих.
Шульц: Я Вас сейчас прерву, чтобы рассказать нашим слушателям немного о Вашей деятельности.
Эрих Фромм родился во Франкфурте 23 марта 1900 г. Он был единственным ребенком в семье. Воспитывали его в иудейских традициях, и скоро я задам ему несколько вопросов об этой стороне его воспитания. Ветхозаветные истории оказали на Фромма очень сильное влияние. Уже в раннем детстве мальчику больше всего импонировали картины Мира с большой буквы, Мира, в котором лев возлежал рядом с ягненком. В весьма юном возрасте он проявлял интерес к интернационализму и общественной жизни наций. Иррациональность зла и массовая истерия, приведшие к первой мировой войне, вызвали в нем глубокий протест.
Приблизительно в то же самое время в его личной жизни произошло некоторое событие, которое решительным образом повлияло на дальнейшее развитие Фромма. Прелестная молодая женщина, художница, друг семьи Фроммов, покончила с собой после смерти своего престарелого отца. Последним ее желанием было желание быть похороненной вместе с ним. Эта смерть поставила Фромма в тупик. Возможно ли было так любить своего отца, чтобы отказаться от радостей жизни, радостей, столь привычных для нее, и предпочесть им смерть? Именно эти вопросы и привели Фромма к психоанализу. Он занялся изучением мотивов, управляющих поведением людей.
Во время обучения в университете Фромм узнавал много нового, с трудом уживающегося с ветхозаветными притчами, которые он знал почти наизусть. Будда, Маркс, Бахофен, Фрейд — вот те имена, которые оказали на Фромма наибольшее интеллектуальное влияние в это время. Таких разных, таких, на первый взгляд антагонистов, он умудрился собрать под одной крышей. Но все это мы обсудим несколько позже, и сейчас я не буду вдаваться в подробности.
Фромм изучал психологию, философию и социологию в Гейдельберге и закончил университет в двадцать два года. Он продолжил обучение в Мюнхене и во Франкфурте, а позже — в Берлинском психоаналитическом институте. В 1930 г. он стал практикующим психоаналитиком.
Кроме основной работы в Берлине, он преподает во Франкфуртском психоаналитическом институте, а также становится членом Института социальных исследований Франкфуртского университета. После прихода к власти нацистов этот институт перенес свою работу в Колумбийский университет Нью-Йорка. Фромм приезжает в Соединенные Штаты в 1934 г. Он преподает в нескольких университетах, стоит во главе важнейших институтов по психоанализу и социальной психологии, но при этом не прекращает практической психоаналитической работы с пациентами. В 1949 г. он принимает предложение Национального университета в Мехико. В 1965 г. он уходит на пенсию, получив чин Почетного профессора. Все годы в Мехико посвящены столь же разнообразной деятельности. В последние годы Фромм живет в Тессине, где, в основном, пишет, но немного все же преподает в Мехико и в Нью-Йорке.
Профессор Фромм известен как активный борец за мир — он основал SANE, ведущую американскую организацию, которая, борясь против применения ядерного оружия, была также лидером в борьбе против войны во Вьетнаме. В 1950 г. он вступает в партию социалистов, но вскоре покидает ее из-за недостаточной радикальности ее целей. Его работа по объединению психоаналитической теории и социального учения Маркса имеет необычайно важное значение и идет рука об руку с его социально-гуманистической ревизией теории Фрейда. Он анализировал интернациональный вклад ученых в дело социалистического гуманизма, и трудно назвать другого такого выдающегося психолога или психоаналитика, который уделял бы столько внимания политическим вопросам. Его книга «Революция надежды» — это политический памфлет в поддержку кандидата в президенты Соединенных Штатов Джозефа Маккарти. Солидарность с Маккарти имела своей причиной вовсе не философские и поэтические пристрастия последнего, а его способность возродить надежду в сердцах своих сограждан, что для Фромма имеет непревзойденную политическую ценность. Что особенно поражает — и это свойственно всем фигурам истинно академического толка — это способность Фромма думать, говорить, делать и жить абсолютно неортодоксально. Прозрения его неувядаемы, на них не оседает пыль веков. Он ненавидит догмы и ставит все новые и новые вопросы. На иврите дух и ветер представлены одним и тем же словом. Именно потому, что учение Фромма остается неиссякаемо незавершенным (в смысле догматичности. — Прим. пер.), от него нельзя отмахнуться ни его друзьям, ни врагам, ни его адептам, ни его оппонентам.
Шульц: Профессор Фромм, теперь, когда я коротко рассказал о Вашем творческом пути, может быть, Вы сами что-нибудь добавите? В одном из своих сочинений Вы говорите что-то об «интеллектуальной биографии». Какие впечатления и влияния Вашей юности, студенческих лет, помогли Вам сформировать Ваше мировоззрение?
Шульц: Наверное, следует упомянуть о важнейших. Конечно, то, что я был единственным ребенком своих слишком обеспокоенных родителей, не могло благотворно сказаться на моем развитии, и я, как мог, в своем самостоятельном развитии пытался преодолеть недостатки воспитания раннего детства.
Но что оказало на меня, безусловно, позитивное и решающее влияние, так это дух, царивший в нашей семье, — дух ортодоксального иудаизма, восходящий по обеим семейным линиям к рабби, знатокам и ценителям Талмуда. Я воспитывался в русле древней — добуржуазной, докапиталистической — традиции, более близкой средневековью, а не современности. И эта традиция имела для меня гораздо большую реальность, чем шумящий за окном XX век. Конечно, я ходил в обыкновенную немецкую школу, а потом и в гимназию. В университетские годы я был глубоко захвачен идеями немецкой культуры, но к обсуждению этого вопроса я вернусь позже.
Мое мироощущение никак нельзя было назвать мироощущением современного человека. Такое отношение к действительности усиливалось изучением Талмуда, чтением Библии и подогревалось бесконечными историями о моих прародителях, живших, так же как и я, в мире добуржуазных ценностей. Сейчас я Вам расскажу одну из них. Один из моих прадедушек был большой талмудист, хотя он и не был рабби. Он жил в Баварии и содержал там маленький магазинчик, позволявший ему едва сводить концы с концами. Однажды ему предложили подзаработать немного денег, но для этого надо было на несколько дней покинуть дом и уехать. У прадедушки была целая куча детей, и это отнюдь не облегчало его жребий. Жена сказала ему: «Может, ты все-таки возьмешься за эту работу? Ведь тебя не будет только три дня в месяц, а мы сможем заиметь побольше денег». На что прадед ответил: «Неужели ты думаешь, что я соглашусь и потеряю целых три дня занятий в месяц?» Жена ответила: «Ну конечно же, нет!» Тем и окончилась эта история, и мой прадед продолжал сидеть в своем магазине и изучать Талмуд. При виде случайного покупателя, забредшего в магазин, он с готовностью предлагал ему заглянуть в следующий. Вот этот-то мир и являл мне истинную реальность. Современный же мир казался мне очень странным.
Шульц: И как долго?
Фромм: И по сей день. Я припоминаю, что когда мне было лет десять или одиннадцать, я всегда несколько терялся при виде продавца или бизнесмена. Про себя я думал: «Господи, как должно быть ужасно сознавать, что в твоей жизни нет ничего, кроме зарабатывания денег! Подумать только, ничего не делать, кроме этого!» Постепенно я понял, что это считается вполне нормальным, но мне это до сих пор кажется удивительным. Я оставался чужеродным элементом окружающей буржуазной культуры, и это объясняет, почему я столь критично настроился по отношению к капиталистическому обществу в принципе. Общество потребления с его запросами отнюдь не соответствовало моим представлениям о жизни. Я стал социалистом, и это не потребовало с моей стороны никаких интеллектуальных усилий, так как я всегда находил нормальным мое ощущение чужеродности.
Шульц: Но Вы все же пытались противостоять этому основополагающему чувству, так как никак нельзя утверждать, что в Ваших идеях и в Вашей жизни нет места современному миру. Напротив, он всегда явственно присутствует, со своими опасностями и со своими надеждами.
Фромм: Я могу ответить Вам вполне просто. Меня всегда притягивало в современном мире то, что свидетельствовало о добуржуазном прошлом. Спиноза, Маркс, Бахофен — с ними я чувствовал себя как дома. В них я находил синтез между живущим во мне прошлым и тем, что привлекало меня в современности. Меня стало интересовать в современном мире то, что уходило корнями в глубокую древность, и поэтому в этом смысле я не вижу противоречия между двумя мирами, и именно поэтому я, как примерный студент, стал искать то, что так или иначе связывало эти миры.
Шульц: Это случилось в университете или раньше? Когда эти два мира пересеклись в Вашем сознании?
Фромм: Как Вы уже упоминали, первая мировая война стала краеугольным камнем в моем развитии. Мне было 14 лет, когда она разразилась. Как и большинство мальчиков моего класса, я был еще ребенком и не понимал в полной мере, что такое война. Но уже через весьма небольшое время я начал видеть насквозь все предлагаемые оправдания войны, и именно тогда же начал биться над вопросом, который меня преследовал всю оставшуюся жизнь. Или, вернее, я преследовал его. Как это возможно? Как возможно, чтобы миллионы людей могли убивать миллионы себе подобных, позволять убивать себя и пребывать в этой нечеловеческой ситуации целых четыре года? И ведь все это служило явно нерациональным целям и происходило по политическим соображениям, ради которых никто не пожертвовал бы своей жизнью, если бы только знал их. Как война возможна политически и психологически Этот животрепещущий вопрос повлиял и до сих пор влияет на мое мировоззрение больше, чем все остальные. Видимо, именно мое добуржуазное воспитание и первая мировая война были теми двумя факторами, которые в основном сформировали меня как философа.
Шульц: Какие книги повлияли на Вашу ориентацию? Я не имею в виду те книги, которые прямо относятся к Вашим профессиональным занятиям, а книги, которые конструировали Вас как личность?
Фромм: Я сам себе неоднократно задавал этот вопрос. Конечно, существует несколько книг, сформировавших, или, если угодно, «вдохновивших» меня. И если я могу здесь сделать отступление, то я хотел бы сказать, что у каждого из нас есть некие книги, которые задают тонус всей нашей жизни. У большинства из того, что мы читаем, нет над нами никакой власти. Книга либо попадает в область наших профессиональных интересов, либо не имеет для нас значения. Но каждый должен спросить себя: существует ли одна, две или три книги, которые находятся в абсолютном центре нашего внутреннего развития.
Шульц: Извините, что перебиваю Вас, но существует высказывание Флобера, которое, мне кажется, очень созвучно Вашим словам: «Я читаю не затем, чтобы знать, а затем, чтобы жить».
Фромм: Точно! Это отличная цитата. Я не слышал ее раньше, но она отлично выражает то, что я хочу сказать. С этой точки зрения, существует не так уж много книг, которые в действительности оказывают на нас влияние. Конечно, любая хотя бы наполовину приличная книга влияет на нас. Нет такой книги, которая оставила бы нас абсолютно безразличными, точно так же, как и любой серьезный разговор или встреча с другим человеком. Если два человека серьезно разговаривают, они оба испытывают что-то, или, как я предпочитаю говорить, они оба «испытывают» изменения. Изменения часто бывают столь минутными, что мы не можем их зафиксировать. Но эта тема уводит нас назад к вопросу, который мы уже затрагивали. Если двое людей разговаривают друг с другом и оба остаются такими же, какими они были до разговора, то на самом деле эти двое не разговаривали вообще. Они были просто вовлечены в обмен словами.
То же самое относится и к книгам. Было три, четыре, пять книг в моей жизни, которые сделали меня тем, чем я являюсь сейчас. Не могу даже представить, чем бы я стал без них. Первыми среди них являются книги пророков. Заметьте, я не говорю Ветхий Завет. Когда я был молодым, я не испытывал такого отвращения к военным докладам о завоевании Ханаана, какое испытываю сейчас. Но даже тогда они мне не нравились, и я сомневаюсь, что прочел их больше, чем один или два раза. Но книги пророков и псалмы, особенно книги пророков, были и остаются для меня неисчерпаемым источником энергии.
Шульц: Не хотели бы Вы когда-нибудь опубликовать их со своими комментариями?
Фромм: Я уже опубликовал книгу такого рода. Это «You Will Be As God» («Будете как Боги»), интерпретация еврейской традиции. Я постарался в ней интерпретировать псалмы, провести различие между теми из них, в которых отражается внутреннее движение, смена печали радостью, и теми, в которых статически сохраняется только одно настроение. Их в определенном смысле, хотя и не всегда, можно назвать фарисейскими. По крайней мере, в них нет ни внутреннего конфликта, ни внутреннего движения. Существуют псалмы, которые могут быть поняты только тогда, когда мы замечаем, что оратор начинает говорить в состоянии отчаяния. Потом он преодолевает свое отчаяние, но оно возвращается. И он преодолевает его снова и снова. И только когда он полностью погружается в пучину самого сильного отчаяния, происходит внезапное чудесное изменение, изменение, связанное с ликующим, религиозным настроением надежды. Псалом 22 (21), который начинается словами: «Боже мой! Боже мой! для чего Ты оставил меня?», является хорошим тому примером.
Я должен упомянуть здесь, что люди часто недоумевают, почему Христос произнес эти слова отчаяния перед смертью. Этот вопрос занимал меня даже в детстве. Слова Христа так не вяжутся с его добровольной смертью и с Его верой. Но на самом деле противоречий не существует, и я детально показал это в своей книге. Псалмы по-разному цитируются в еврейской и в христианской традициях. Христианская традиция просто ссылается на номер псалма, а еврейская — вызывает в памяти весь псалом, цитируя первую его фразу или первые слова. Как известно, в Библии сказано, что Иисус прочитал весь Псалом 22 (21). И если вы прочтете этот псалом, то увидите, что он начинается с отчаяния, а заканчивается гимном надежде. Возможно, он больше, чем любой другой псалом, выражает вселенское, мессианское настроение раннего христианства. И если мы не прочтем весь псалом, то мы проглядим это и будем думать, что Иисус произнес только первые слова. Возглас Христа был даже изменен позднее в Евангелии, потому что он часто вызывал непонимание. Да, но мы увлеклись. Хотя хорошо, что мы не связаны программой или расписанием.
Итак, книги пророков — одно из основных влияний в моей жизни, и когда я читаю их сегодня, они так же свежи и живы для меня, как и пятьдесят лет тому назад, может быть, даже более свежи и более живы.
Вторым автором, который оказал на меня влияние, был Карл Маркс. Меня привлекала, в первую очередь, его философия и его видение социализма, которое выражалось в светской форме, его идея человеческой самореализации и тотальной гуманизации, его идея человека, чьей целью является энергичное самовыражение, а не приобретение и аккумуляция мертвых, материальных вещей. Эта тема впервые возникла в философских трудах Маркса около 1844 г. Если вы читаете эти работы, не зная их автора, или если вы просто плохо знакомы с Марксом, вы едва ли его узнаете. Не то, чтобы эти тексты нетипичны для Маркса, но для нас трудно установить его авторство, потому что, с одной стороны, сталинисты, а с другой — социалисты так фальсифицировали наш образ Маркса, что как будто бы все, что его занимало, сводилось лишь к экономической жизни общества. А фактически он рассматривал экономические изменения лишь как одну из сторон развития человеческого общества. Что действительно имело значение для Маркса, так это освобождение человека в гуманистическом смысле этого слова. Философии Гете и Маркса обнаруживают удивительное сходство. Маркс прочно уходит корнями в гуманистическую и, я полагаю, пророческую традицию. Если вы читали одного из самых весомых и радикальных мыслителей — Майстера Экхарта, вы, без сомнения, будете удивлены его сходством с Марксом.
Шульц: Это правда, что нам приходится защищать Маркса — и многих его коллег из различных школ — от его собственных адептов. Но кто же защитит их? Этот же вопрос может быть задан в отношении Брехта, Фрейда, Эрнста Блоха и любого из величайших умов, чьи имена люди используют сегодня для достижения своих собственных целей. Были ли в наших университетах или где-нибудь еще попытки оградить авторов, подобных Марксу, от окостенения и односторонней интерпретации?
Фромм: Существует весьма мало тех знатоков Маркса, которые бы не рассматривали бы его с «правой» или с «левой» позиции. С одной стороны, они используют его для поддержки своих собственных взглядов, а с другой — для объяснения практики и политики, которые часто диаметрально противоположны тому, о чем, собственно, писал сам Маркс. Когда русские государственные капиталисты или западные капиталисты либерального толка — здесь я подразумеваю большинство сторонников социально-демократических идеологий — когда такие люди обращаются к Марксу как к авторитету, они фальсифицируют Маркса. Немногие действительно понимают Маркса. Я даже могу самонадеянно заявить, что к этому числу немногих принадлежу я и еще несколько людей. Я не хочу делать огульных суждений, но чувствую, что большинство специалистов по Марксу проглядели тот факт, что его философия является по сути религиозной, но не в смысле постулирования веры в Бога. Буддизм также не «религиозен» с этой точки зрения. Буддизм не признает Бога, но является религиозным в своей основе. Мы должны переступить через наш нарциссизм, наш эгоизм, нашу внутреннюю изоляцию и открыть себя для жизни, и мы должны, как писал Майстер Экхарт, сначала опустошить себя, чтобы потом вновь наполнить и стать всем. Именно эта вера, выраженная другими словами, — суть философии Маркса. Я часто читал разным людям маленькие кусочки из «Экономическо-философских рукописей» Маркса. Я вспоминаю встречу с доктором Судзуки, одним из выдающихся ученых в области дзэн-буддизма. Я прочитал несколько отрывков, не говоря ему, кто их написал, и затем спросил его: «Это дзэн?» «Да, конечно, — сказал он. — Это дзэн». В другой раз я прочитал похожие отрывки группе очень грамотных теологов, и их догадки простирались от классических авторов, таких, как Фома Аквинский, до самых современных теологов. Но никто из них не заподозрил в авторе Маркса. Они просто его не знали.
Но некоторые последователи Маркса, такие, как Эрнст Блох и антимарксистские католические ученые, как Жан Ив Кальве, четко видят эту сторону учения Маркса. Число тех, кто понимает Маркса, не так уж мало, но их влияние, по сравнению с основными его интерпретаторами, остается относительно небольшим.
Еще одним ключевым автором для меня стал Иоганн Якоб Бахофен, автор, к сожалению, не очень широко сейчас известный. Бахофен был первым мыслителем, который описал матриархат. Он создал свои основные труды около ПО лет назад, но их первый, абсолютно неполный, перевод на английский язык появился только пять лет назад. Бахофен открыл, что до патриархального существовал матриархальный мир. Он показал, какая между ними разница. Если кратко, то матриархат строится на принципе неограниченной человеческой любви. Мать любит своих детей не за их заслуги, а потому что они — ее дети. Если бы мать любила свое дитя только тогда, когда оно улыбается или хорошо себя ведет, то многие дети умерли бы с голода. А отец любит своих детей, потому что они его слушаются, потому что они похожи на него. Я не имею в виду каждую мать или каждого отца, а говорю лишь о классических типах и категориях, служащих примером отцовской и материнской любви на протяжении человеческой истории. В действительности «чистых» классических типов не существует, и в обществе мы найдем немало «материнских» отцов и «отцовских» матерей. Разница заключается в социальном укладе, патриархальном или матриархальном. Конфликт между ними лучше всего отражен в «Антигоне» Софокла. Антигона воплощает матриархальный принцип: «Я здесь не для того, чтоб ненавидеть, а для того, чтобы любить», в то время как Креонт воплощает патриархальный принцип и ставит государство выше всех человеческих ценностей (принцип, который сегодня мы назвали бы фашизмом).
Открытие Бахофена дало мне ключ не только в смысле понимания многого в нашем патриархальном обществе, в котором любовь не безусловна, но и к пониманию того, что я ставлю во главу угла индивидуального человеческого развития. Что означает наше стремление к матери? Что такое — наша с ней связь? Что это значит в действительности? Какова природа Эдипова комплекса? Является ли это сексуальной связью? Я так не думаю. Мы имеем дело с более глубокими связями, стремлением к чему-то экстраординарному, божеству, которое снимает с нас груз ответственности, уменьшает риск жизни, излечивает нас от страха перед смертью и укрывает нас в раю. За эту защиту мы платим зависимостью от матери. Цена состоит в том, чтобы не полностью принадлежать самим себе. Вот все те главные проблемы, благодаря которым Бахофен был так важен для меня в 20-е годы.
Буддизм также оказал на меня решающее влияние. Он заставил меня осознать, что существует такая вещь, как религиозная позиция без Бога. Впервые я столкнулся с буддизмом около 1926 г., и это был один из самых важных моментов в моей жизни. Мой интерес к буддизму никогда не угасал, а позднейшее изучение дзэн-буддизма с доктором Судзуки только углубило мой интерес.
И, конечно, я еще не упомянул Зигмунда Фрейда. Я познакомился с идеями Фрейда в то же самое время, и они до сих пор остаются центральными в моем мировоззрении. Все, что я перечислил — пророческий иудаизм, Маркс, матриархат, буддизм и Фрейд, стало ключевым для меня и сформировало не только мышление, но полностью мое развитие. Я не умею абстрактно мыслить. Я могу размышлять только о тех вещах, которые касаются моего личного опыта. Если эта связь отсутствует, мой интерес угасает и я не могу себя мобилизовать.
Шульц: Несмотря на то, что Вы хорошо знаете Маркса, или я бы сказал, потому что Вы хорошо знаете Маркса, Вы не являетесь тем, что называется типичным марксистом, и у меня складывается ощущение, что у Вас такие же отношения с Фрейдом. Вы берете Фрейда — как мы сейчас любим говорить — за точку отсчета. Вы как будто с ним, а как будто — и нет. Вы идете дальше. Вы не таковы, как большинство фрейдистов, так как Вы слишком критичны.
Фромм: Я всегда был в меньшинстве. С Бахофеном я был в меньшинстве, потому что последователей Бахофена очень мало. Что касается Фрейда, то я обучался как истинный фрейдист в Берлинском институте, и сначала я полностью принял теорию Фрейда о сексуальности и т. д. Я всегда был хорошим студентом, который изначально допускает, что его учителя правы, до тех пор пока его собственный опыт не докажет ему обратное. Во всяком случае я изучил Фрейда очень тщательно. Безусловно, на нас оказывалось давление, чтобы мы приняли теорию Фрейда. Но прошло несколько лет, и я начал сомневаться. Я все больше и больше понимал, что не нахожу того, что предполагаю найти в моих пациентах, применяя к ним психоанализ. И я понял кое-что еще: фрейдовская теория не дает мне возможности достичь контакта с пациентом и его реальными проблемами. Я не хочу сейчас углубляться в теорию Фрейда. Это сложное занятие. Но как фрейдист я был научен все видеть с точки зрения Эдипова комплекса, страха кастрации, сексуальности в целом.
Я часто замечал, что эта теория не подходит для моих пациентов. Кроме того, меня неприятно поразил тот факт, что мне стало скучно. Я сидел и делал все так, как меня учили. Правда, я не заснул. (А один из моих учителей заснул и утверждал, что это отнюдь неплохая вещь. Он сказал, что, когда он заснул во время анализа, он видел сон, который дал ему больше, чем работа с пациентом.) Я понял, что устал и абсолютно измучен после шести, семи, восьми часов работы. И я спросил себя: «Почему ты так устаешь? Почему тебе так скучно»? И со временем я пришел к мысли, что моя скука проистекает из оторванности от жизни моих пациентов. Я имел дело с абстракциями, хотя эти абстракции и имели вид примитивного опыта из детства пациента.
Я переключил свое внимание на действительно основную проблему моей работы, на отношения одного человека с другим, и особенно на эмоции, которые идут не от инстинктов, а, скорее, от самого человеческого существования. И я начал понимать моих пациентов. И человек, которого я анализировал, тоже мог понять, о чем я говорю. Он чувствовал: «Ага, вот оно как». Я больше не чувствовал усталости, а мои сеансы стали очень живыми. Я часто думаю, что даже если мой анализ не принес пациенту никакого облегчения, то часы, которые он провел со мной, останутся в его памяти, так как на протяжении этих часов он жил. И если бы затем я обнаружил, что устаю, то, несмотря на это, я бы спросил у пациента: «Послушай, что здесь происходит? Я не чувствовал себя усталым, когда ты пришел, а сейчас я без сил. Это потому что ты что-то сказал? Или я сделал что-то, почему стало так отчаянно скучно?» Таким образом, я мог судить об успехе или провале сеанса. Это зависело от того, был ли он интересен или нет. При этом не имело значения, о чем шла речь. Интерес возникает не из-за умных или блестящих формулировок, а когда разговор волнует обоих партнеров, когда он касается их обоих.
Шульц: Влияния, которые Вы нам перечислили — пророки, Маркс, Бахофен, Фрейд и буддизм, находятся во взаимосвязи друг с другом, но, с другой стороны, они несопоставимы. Вы сумели их собрать в своего рода мозаику или, как называют это Ваши друзья, в креативный синтез. Считаете ли Вы этот синтезированный импульс характерным для Вашей работы?
Фромм: Да, я так думаю. Мой глубокий интеллектуальный и эмоциональный импульс должен был разрушить стены между этими очевидно несопоставимыми элементами, которые, кстати говоря, за исключением буддизма, формируют фундамент европейской культуры. Я хотел обнаружить их структуру и, если угодно, соединить их в синтезе. Я хотел показать, что эти несопоставимые философские школы являются только различными гранями одной позиции, одной основной концепции. Возможно, я лучше всего объясню, что имею в виду, сказав, что Майстер Экхарт и Маркс — два моих любимых автора. Считается, что Маркс и Экхарт — это две противоположности, и многие, наверное, сейчас подумали, что я, видимо, слабоумный, если соединяю их. Но радикализм Экхарта и философия Маркса удивительно схожи в своем стремлении исследовать вещи от поверхности явлений до самой сути. Как говорил Экхарт: «Корень вещи объясняет ее рост». Маркс мог бы подписаться под этими словами. И Фрейд тоже. У нас есть привычка классифицировать авторов и их работы. Мы выделяем лишь один аспект писателя; мы видим то или иное, но не суть, не все. Я хотел собрать воедино, увидеть в контексте жизненно важные элементы европейской мысли, которые обычно рассматриваются отдельно. Это стремление оставалось центром всего, чем я занимался на протяжении последних сорока лет.
Шульц: А сейчас, если это все, я бы хотел прервать наш разговор на минуту ради маленького художественного антракта. Я знаю, профессор Фромм, что Вы любите слушать музыку, и что Вам нравится делить это удовольствием с гостями. В отличие от Вашего коллеги из Франкфурта Теодора В. Адорно Вы не считаете себя специалистом в музыке, но Вы большой ее любитель. Что Вы любите слушать?
Фромм: Мои музыкальные пристрастия достаточно старомодны. Я не оцениваю музыку, но она очень важна для меня на эмпирическом уровне. Мне тяжело представить, как бы я смог жить без музыки.
Шульц: Посмотрев Ваши пластинки, я нашел много барочной музыки и произведений Моцарта, особенно концерты для скрипки и деревянных духовых инструментов, а также сочинения Бетховена. Но Вы мне сказали, Ваша любимая музыка — это сюиты Баха для виолончели в исполнении Пабло Казальса. Казальс, который репетировал эти сюиты на протяжении 12 лет, прежде чем он смог сыграть их публично, назвал их «квинтэссенцией Баха». Я принес эти шесть сюит, и мы их сейчас послушаем. Но перед этим, я бы хотел сказать два слова в качестве вступления. Недавно я видел телеинтервью Казальса, которое было сделано за несколько лет до его смерти. Журналист спрашивал Казальса о том, что бы он сказал, если бы у него была возможность поговорить со всем миром. «Я бы сказал людям следующее, — ответил он. — В глубине сердца почти все вы хотите больше мира, чем войны, больше жизни, чем смерти, больше света, чем тьмы. А теперь, — продолжал он, — для того, чтобы вы лучше поняли, что я имею в виду, я сыграю вам Баха».
Шульц: Профессор Фромм, Вы посвятили пять или шесть лет работе над книгой «Анатомия человеческой деструктивности» («The Anatomy of Human Destructiveness»). Целью этой книги было разоблачение многих широко распространенных идей о природе человеческой агрессии. В одной главе, которая особенно интересна немецким читателям, Вы попытались дать характеристику Гитлеру. И Ваша книга абсолютно отличается от остальной современной литературы о Гитлере.
Фромм: Да, есть несколько последних публикаций, написанных бывшими нацистами, которые превозносят Гитлера до небес, но они не завоевали читательской аудитории. Лишь две книги, Феста и Мазера, появились в Германии, книга Лангера вышла в Америке. С этой книгой связана странная история. Она была заказана OSS во время второй мировой войны для того, чтобы у американской разведки был психологический портрет Гитлера. Автор книги — психоаналитик самой ортодоксальной школы. Подобно множеству секретных документов, в которых в общем-то нет ничего особенного, эта книга не была доступной широкому кругу читателей вплоть до недавнего времени. У автора не было большого объема материала для исследования, и поэтому он анализировал Гитлера с фрейдистской точки зрения. У Гитлера был Эдипов комплекс; он был свидетелем половой жизни родителей. Это, конечно, кое-что и объясняет, но сам подход наивен, потому что у нас подчас нет достаточного количества данных для того, чтобы объяснить характер большинства людей, не говоря уже о такой сложной личности, какой был Гитлер.
Французский писатель Жак Бросс дал нам гораздо более глубокий анализ личности Гитлера. Правда, объемная картина характера Гитлера получалась у него только тогда, когда он верно употреблял психоаналитическую терминологию. Но иногда он увязал в своем собственном психоаналитическом слэнге и начинал развивать идеи настолько трудные для понимания, запутанные и комичные, что мы просто отнимем у себя время, если будем говорить о них. Но, несмотря на его теоретические и аналитические формулировки и собственное отношение к Гитлеру, книга является одной из самых лучших.
Мой собственный анализ проистекает из исторических исследований, которые недавно появились в Германии, и из попыток написать психологическую биографию Гитлера. В книге «Бегство от свободы» («Escape from Freedom»), опубликованной в 1941 г., я попытался сделать краткий психоанализ Гитлера, не углубляясь в его детство. В моем первом исследовании я видел в Гитлере, в первую очередь, садомазохиста, который является (по моему определению) личностью с неограниченной страстью к высвобождению энергии, контролю над всеми и самоподчинению. Сегодня в свете более глубоких исследований я подошел к пониманию еще одного очень важного фактора. Я называю этот фактор — некрофилия. Обычно этот термин применяется только по отношению к сексуальному извращению, но я его использую, следуя примеру великого испанского философа Унамуно, который в своей речи в Саламанке в 1936 г. провозгласил девиз фалангиста «Да здравствует смерть». Это некрофилический девиз. Под понятием «некрофилия» я подразумеваю не сексуальный или физический смысл, но очарование тем, что является мертвым, безжизненным, расчлененным на части, с деструкцией жизненных связей. Мотивировка некрофила кроется не в любви к живому, а в чистой механике. Некрофилия означает любовь к тому, что мертво. Nekros — значит труп. Некрофилия — не любовь к смерти, а любовь к мертвым вещам, ко всему неживому. Ее противоположностью является любовь к жизни, любовь ко всему, что растет, имеет структуру, формирует единство.
Но возвратимся к Гитлеру: если все мы честные люди, то мы должны признать тот простой факт, что Гитлер не может быть осужден лишь за то, что он развязал войну, которая принесла смерть миллионам людей. Генералы и прочие государственные мужи занимались этим на протяжении последних 6000 лет, руководствуясь тем, что они должны это сделать во благо своего отечества и т. д. Из множества генералов и чиновников, желавших войны, Гитлера выделяет то, что он убивал беззащитных людей. Главной целью моего анализа феномена Гитлера является наглядная демонстрация того, что Гитлер был человеком, который чувствовал глубокую ненависть ко всему живому. И если мы утверждаем, что Гитлер ненавидел евреев, то это, конечно, правильно, но некорректно. Он ненавидел евреев так же, как и немцев. И когда победа ускользнула из его рук и он понял, что не смог реализовать свои амбиции, он захотел, чтобы вся Германия ушла с ним. Он даже выразил это желание вслух где-то около 1942 г. Он сказал, что если Германия проиграет войну, то немецкий народ не достоин жить. Гитлер является абсолютным примером некрофила, чьи заверения о том, что он изменит все к лучшему, прячут его реальный характер от его последователей.
У Гитлера — выражение лица, характерное для некрофила. Они выглядят, так как будто бы нюхают что-то гнилое. Это означает, что эти люди рассматривают любые немертвые, живые вещи как непристойность. Они относятся к ним архаично, как животные — нюхая и фыркая. Фон Хентиг приводит огромное количество случаев такого типа людей из криминологической практики, когда отдельным личностям нравятся отвратительные запахи. Некрофилов привлекает вонь, экскременты, падаль. Это написано на их лицах. У некрофилов характерное неподвижное лицо, оно как будто заморожено. У биофилических людей лицо имеет множество выражений, и оно оживает в присутствии чего-либо живого. Говоря другими словами, некрофил безнадежно скучает. Биофил не скучает никогда, неважно, о чем он говорит. Предмет может быть незначительным, но все, что он говорит, отмечено витальностью. Некрофил может быть очень образованным, но не может быть живым. Мы все не раз слышали, как интеллектуал говорит что-нибудь ужасно умное, но нам скучно. Напротив, гораздо менее блестящая личность может сказать что-нибудь очень простое (это относит нас назад к начальной точке вечера, предмету разговора), но нам совсем не скучно. Нас всегда притягивает живое. Привлекательными людей делает витальность. Сегодня людям кажется, что они могут быть привлекательными и красивыми, если нарисуют себе лица или примут определенное выражение, которое им кажется современным и неотразимым. Многие падки на такие вещи. Обычно это те, кто не уверен в себе. В действительности существует только одна вещь, которая привлекает нас, — витальность. Мы видим ее у влюбленных. В своем желании сделать приятное и привлечь другого, они фактически становятся живее обычного. Единственная проблема состоит в том, что когда они достигают своей цели и «имеют» друг друга, их желание быть более живыми сильно уменьшается. Внезапно они становятся абсолютно другими, а по истечении некоторого времени и вовсе перестают любить. Их партнеры меняются. Они больше не прекрасны, потому что у них на лице больше нет печати витальности.
Лицо некрофила не бывает красивым, потому что оно неживое. Вы можете увидеть это на портретах Гитлера. Он не мог свободно и спонтанно смеяться. Шпеер рассказывал мне, что дневные и вечерние приемы у Гитлера были мучительно скучны. Он говорил и говорил, не замечая, что все вокруг зевают. И он сам так скучал, что иногда засыпал во время своей речи. Это отсутствие энергичности является типичным для некрофила.
Я развивал концепции некрофилии и биофилии на базе моих клинических опытов, присоединив к ним концепцию Фрейда об эросе и желании смерти. Изначально я отверг идею «желания смерти», как и большинство аналитиков, потому что она казалась мне необоснованной. Но затем мои собственные клинические опыты заставили меня понять, что эта теоретическая концепция Фрейда была открытым вопросом и для него. Он просто ткнул пальцем в небо, как он часто делал, и указал на две главные тенденции: склонность к жизни и склонность к смерти и разрушению. Фрейд характеризовал эти две тенденции очень кратко. Он говорил, что эрос, витальная сила или сила любви, стремится к интеграции, к единству, в то время как целью желания смерти является дезинтеграция или, как я это называю, деструкция.
Концепции некрофилии и биофилии, Фрейда и моя собственная, различаются в двух случаях. Во-первых, по Фрейду, обе тенденции равны по силе. Он говорил, что желание разрушать так же сильно в людях, как и их желание жить. Я так не думаю. Здесь биология против Фрейда, потому что, если мы допускаем, что сохранение жизни является высшим биологическим законом, тогда, с точки зрения выживания видов, саморазрушительные тенденции такие же сильные, как и импульс сохранения жизни, бессмысленны. Й еще один момент, где мы расходимся с Фрейдом. Можно доказать, что деструктивные тенденции являются тенденциями, выросшими из желания смерти, результатом наших жизненных ошибок. Они являются последствиями неправильного образа жизни.
Мы можем показать, что люди, окруженные врагами и живущие внутри класса или в обществе, в котором все действует механически и безжизненно, теряют свою способность быть непосредственными и свободными. Мелкая буржуазия — это класс, из которого вышли самые преданные адепты Гитлера. Это были люди, чьи экономические и социальные возможности были равны нулю, люди без чувства надежды, потому что рост современного капитализма обрек их на экономический упадок. И когда нацисты рисовали этим людям идиллические картины, в которых универмаги принадлежали бы всем маленьким держателям магазинов и у каждого была бы своя ниша, они верили в это, хотя картина была абсолютно нереальна. В результате национал-социалисты не сделали ничего, чтобы замедлить рост капитализма; напротив, они дали возможность капитализму беспрепятственно развиваться.
Связь между разрушенной витальностью и некрофилией очевидна на примере отдельных личностях. Без сомнения, редко найдешь людей, чьи семьи были бы «мертвы», и дети никогда бы не испытали даже легкого дыхания жизни в течение детства. Просто все было превращено в бюрократию, рутину. Жизнь состояла только из приобретения и владения вещами. Родители рассматривали любой знак спонтанности в своих детях как врожденное зло. Но достаточно очевидно, что дети по своей натуре очень живы и активны. Этот факт был доказан последними нейрофизиологическими и психологическими исследованиями. Но постепенно ребенок все больше и больше расхолаживается, а потом выбирает другое направление, в котором неживое становится основным. Из последнего анализа понятно, что человек, который не найдет радости в живом, будет пытаться мстить за себя и предпочтет скорее разрушить жизнь, чем чувствовать, что живет бесполезно. Он может жить физиологически, но психологически становится мертвым. Именно эта омертвелость вместо признания собственного жизненного фиаско вызывает страстное желание разрушить все без исключения. Это горькое чувство для тех, кто хоть однажды испытал его, и мы должны признать, что желание разрушать следует ему как практически неизбежная реакция.
Шульц: Вы считаете, что подобная некрофилия увеличивается в нашем обществе?
Фромм: Да, боюсь, что это так. Наша чрезмерная занятость механически порождает ее. Мы уходим от жизни. Трудно вкратце объяснить, почему вещи занимают в нашем кибернетическом обществе и культуре место человека, отталкивая его в сторону. Как я уже говорил сегодня, люди становятся все более неуверенны насчет собственного бытия. Когда я говорю «бытие», я имею в виду его значение в историко-философском смысле. Что такое бытие? Философское понятие интересует меня не меньше, чем экспериментальный аспект. Разрешите мне привести простой пример. Женщина может прийти к аналитику и начать описывать себя приблизительно так: «Вот, доктор, у меня „есть“ проблемы. У меня „есть“ счастливый брак, и у меня „есть“ двое детей, но у меня „есть“ так много трудностей». В каждом предложении она использует глагол «иметь (есть)», и весь мир представляется ей как объект обладания. Раньше (я знаю это из моего собственного опыта английского и немецкого языков) она сказала бы: «Я чувствую себя несчастной, я удовлетворена, я волнуюсь, я люблю своего мужа, или, может быть, я не люблю его, или я сомневаюсь, что люблю его». В последнем случае люди говорят о том, какие они есть, о своей деятельности, о чувствах, которые они испытывают, но не об объектах или приобретениях. Люди все больше и больше склоняются к тому, чтобы выражать свое бытие существительными, которые стоят за той или иной формой глагола «иметь». У меня есть все, но я — ничто.
Шульц: Если бы кто-то смог объяснить слово «жизнь» с такой же силой, как Вы, если бы люди, поняв, что они не могут достичь человеческого будущего во имя нации, закона, партии, необходимости, Бога или чего-нибудь еще, могли бы понять, что они могут достичь его только во имя жизни, тогда Ваши интересы должны были бы переместиться на исследование условий, в которых возможна истинная жизнь. Каковы же эти благоприятные условия? Влияет ли Ваша концепция биофилии на политику? В отличие от Ваших коллег-психоаналитиков Вы являетесь политической фигурой (и очень независимой фигурой). Но в Вашем случае быть политически активным не значит принимать участие в партийной политике. Возможно, лучше всего быть не связанным с какой-либо партией. Это все увязывается в Вашу теоретическую позицию. Не могли ли бы Вы прокомментировать это?
Фромм: Я рад, что вы затронули столь важный для нас и для общества вопрос. Вы абсолютно правы. На протяжении лет многие люди примыкают к какой-нибудь политической партии, особенно в молодости. Я же никогда не принадлежал ни к одной из них. Правда, несколько лет я был членом американской социалистической партии, но, на мой взгляд, она ушла настолько вправо, что даже если бы я мог рассматривать ее возможности с оптимизмом, я бы не смог больше оставаться в ее рядах. Я очень политизирован, но ни в политике, ни где бы то ни было еще я не могу цепляться за иллюзии только из-за того, что они поддерживают мою «линию». Ложь может привязать нас к партии, но, в конечном счете, только правда может привести к освобождению человека. Но слишком многие боятся свободы и предпочитают иллюзии.
Шульц: Потому что они выбирают линию партии. Партийная политика может надеть на нас шоры. В определенном смысле мы можем сказать, что партийная политика делает нас аполитичными, хотя я и не отрицаю ее необходимость. Я просто считаю, что, когда наша политическая жизнь определяется политикой партии, мы можем стать аполитичными.
Фромм: Да, партиям, особенно наиболее прогрессивным из них, нужны независимые люди. Для нашей политической жизни важно, чтобы приходили политически активные люди и свободно говорили о том, что они думают и знают. Частная и общественная жизнь неразделимы. Мы не можем отделить наше знание самих себя от нашего знания общества. Одно принадлежит другому. Я думаю, что именно в этом состоит ошибка Фрейда и многих других аналитиков, считающих, что эти две веши можно разделить, что мы можем полностью понять себя и оставаться слепыми в социальных процессах. Это не так. Мы не можем видеть реальность «здесь» и оставаться закрытыми ей «там». Это ослабляет наше зрение и делает поиск правды неэффективным. Мы можем правильно оценить себя только в контексте социальных обстоятельств, которые мы можем заметить, если будем пристально и критично следить за тем, что происходит в мире. Это то, что требует от нас любовь. И если мы любим наших ближних, мы не можем ограничить понимание и любовь чем-то одним. Это неизбежно ведет к ошибке. Мы должны быть политизированными, я бы даже сказал, страстно вовлеченными в политику людьми. И каждый из нас делает это своим собственным способом, соответствующим темпераменту, жизнедеятельности и возможностям.
Я бы хотел добавить еще кое-что. У интеллектуала есть одна, первая и главная, задача. Он должен искать истину и проповедовать ее. Для интеллектуала не является главным составление политических платформ. И это не противоречит тому, что я говорил раньше о политической активности. Это особая задача интеллектуала — она определяет или должна определять его роль: преследовать истину без компромиссов и без оглядки на свои или другие интересы. Если интеллектуал ограничивает свои функции нахождением и провозглашением истины в услугу любой политической партии или политическим целям, то неважно, насколько достойны похвалы его программа или цели. В этом случае интеллектуалы ошибаются в уникальности своей задачи, которая, в конечном счете, является их самой важной политической задачей. Я считаю, что политический прогресс зависит от того, насколько мы знаем истину, как честно и четко говорим о ней и какое влияние она оказывает на других людей.