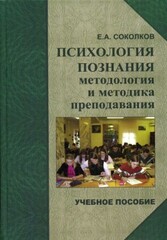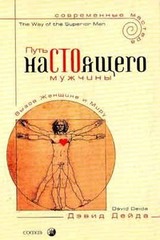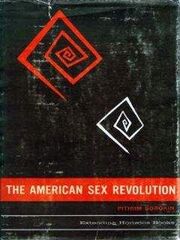Лекция XI СВЯТОСТЬ
В последней лекции перед нами возник вопрос: каковы практические результаты тех случаев полного душевного возрождения, о которых мы уже слышали?
Этот вопрос приводит нас к очень важной части нашей задачи, потому что, как вы припоминаете, мы начали это эмпирическое исследование не только для того, чтобы раскрыть любопытную страницу в естественной истории человеческого сознания, но, главным образом, затем, чтобы составить суждение о ценности и о действительном значении религиозных страданий и религиозного счастья. Прежде всего, мы должны рассмотреть плоды религиозной жизни, а затем уже составить о них суждение. Таким образом, наше исследование распадается на две части.
Перейдем к описанию интересующих нас явлений. По временам, быть может, оно будет производить на вас тяжелое впечатление, касаясь эксцессов человеческой природы, но в то же время мы встретим здесь и самые отрадные страницы в истории человеческого духа, где жизнь достигает своей наибольшей нравственной высоты; и вспомнить о ряде примеров подобного состояния — значит почувствовать себя ободренным, возвысившимся и обвеянным очищающей нравственной атмосферою.
Высшие ступени милосердия, благочестия, доверия, терпения, мужества, до которых поднялись распростертые крылья человеческой природы, были достигнуты стремлением к религиозным идеалам. Относительно этого я хочу привести несколько замечаний, которые Сент-Бев делает в своей истории Port-Royal'я о результатах обращения.
"Даже с просто человеческой точки зрения", говорит Сент-Бев, "состояние благодати представляет собою явление необычайное, возвышенное и редкое, как по своей природе, так и по последствиям, и заслуживает более внимательного изучения. Душа человека приходит в это время в непоколебимо твердое состояние, которое поистине можно назвать героическим, и которое способно побудить человека на величайшие подвиги. Независимо от различия вероисповеданий и средств для достижения этого состояния, независимо от того, достигается ли оно отпущением грехов, исповедью, молитвой наедине или наитием свыше, короче сказать, вне зависимости от времени и причины, легко выделить в плодах святости и в самой сущности ее общие черты. Приподнимем немного покров разнообразных обстоятельств, и для вас станет очевидным, что христиане всех эпох испытывали нечто общее им всем: дух набожности и милосердия, осенявший всех, на кого нисходила благодать, — то особое внутреннее состояние, которое характеризуется любовью и смирением, безграничным доверием к Богу, строгостью к себе, снисходительностью к другим. Плоды, свойственные этому состоянию души, имеют одинаковый вкус везде, в самых отдаленных странах, в самых различных местностях, как у святой Терезы Авильской, так и у каждого из моравских гернгутеров".[149]
Сент-Бев имеет здесь в виду только наиболее выдающиеся случаи возрождения души, и действительно они являются для нас весьма поучительными. Жизненный путь людей, о которых он говорит, часто до такой степени отличался от обычных путей, что, судя о нем по человеческим законам, мы можем почувствовать искушение назвать его чудовищным отклонением от пути природы. Исходя отсюда, я поставлю общий психологический вопрос о том, каковы внутренние условия, которые могут сделать характер одного человека до такой степени отличным от характера другого.
Причина такого различия лежит в нашей "неодинаковой эмоциональной восприимчивости" и в различии тех побуждающих и задерживающих моментов, которые эта восприимчивость влечет за собою. Я постараюсь пояснить сказанное.
Вообще говоря, то, что мы представляем из себя в любой данный момент в области нравственной и практической жизни, всегда является результатом борьбы двух сил внутри нас: побуждения толкают нас вперед, а препятствия и запрещения удерживают. "Да!" говорит побуждение. "Нет!" возражает запрещение. Мало найдется людей, из числа не разбиравшихся подробно в этом вопросе, которые сознавали бы, как непрерывно действует на нас этот фактор запрещения, как он придает нам ту или другую форму своею сдерживающей силой, почти в той же степени, как если бы мы были жидкостью, заключенною в стенках сосуда. Влияние это действует до такой степени непрерывно, что перестает достигать нашего сознания. Каждый из нас, например, сидит здесь в состоянии известной напряженности, являющейся результатом пребывания вашего в этой аудитории, — но вы совершенно не сознаете этой напряженности. Оставшись в одиночестве в этой комнате, каждый из вас, вероятно, невольно переменил бы положение и сделал бы его более свободным и удобным. Когда же берет верх какое-нибудь большое душевное возбуждение, то приличие и силы, запрещающие нам их нарушение, разрываются словно паутина. Я видел одного денди, который, испугавшись вспыхнувшего по близости пожара, не кончив бриться, выбежал на улицу с лицом, покрытым мыльной пеной. Точно так же и женщина без стеснения появляется среди посторонних людей в одном белье, если только дело идет о спасении ее ребенка или ее самой. Повседневная жизнь светской женщины, полная привычек к изнеженности, может также служить в данном случае, хорошей иллюстрацией. Женщина уступает каждому импульсу, вызываемому неприятными для нее ощущениями, долго лежит в постели, поддерживает свои силы чаем или бромом, прячется в комнаты от холода. Каждое затруднение находит ее послушной своему «нет». Но пусть только она сделается матерью, и что же мы тогда видим и Охваченная чувством материнства, она не боится уже ни бодрствования, ни усталости и работает без отдыха, без малейшей жалобы. Запрещающая сила страдания исчезла, когда дело коснулось интересов ее ребенка. Неудобства, причиняемые этим существом, сделались для и ее, выражаясь словами Джемса Гинтона, "пылающим очагом великой радости", и действительно, они являются в данном случае условием, при котором радость ощущается глубже.
Этот пример подкрепляет в наших глазах значение "очищающей силы высших чувств". Но такое же значение могут приобрести и чувства низшего порядка, раз возбуждение, являющееся его результатом, достаточно сильно. В одной из своих бесед Генри Друммонд рассказывает о наводнении в Индии, во время которого осталась незатопленной только одна возвышенность, с находящейся на ней хижиною, и эта возвышенность сделалась убежищем не только для людей, но и для диких зверей и пресмыкающихся. В один из моментов наводнения к этому клочку сухой земли направился вплавь тигр, достиг его и лег на землю среди людей, тяжело дыша, как собака. Он до такой степени находился еще во власти ужаса, что один из англичан мог спокойно выступить вперед и прострелить ему из карабина голову. Обычная свирепость тигра была временно подавлена чувством страха, который совершенно овладел им в этот момент и образовал новый центр его психики.
Бывает так, что ни одно душевное состояние не является господствующим, но образуется как бы смешение нескольких противоположных состояний. В этом случае в душе человека рождаются, как «Да», так и «Нет», и чтобы разрешить этот конфликт приходит на помощь воля. Представьте себе, например, солдата, которого боязнь показаться трусливым заставляет двигаться вперед в то время, как страх приказывает ему бежать, а его склонность к подражанию толкает его на разные пути, если предположить, что его товарищи поступают неодинаково. Личность его является тогда ареной борьбы многих влияний, и в течение некоторого времени он колеблется, потому что ни одно влияние не является преобладающим. Решающим моментом здесь является известная степень напряжения, и раз какое-нибудь чувство достигнет ее, оно становится уже единственно значительным и заставляет исчезнуть всех своих соперников вместе с их запретами. Ярость, с которой нападают на врага его товарищи, может довести до этой степени его храбрость; паника, неизбежная при поражении, доведет его страх до этой же решающей дело степени.
Во время исключительного господства какого-нибудь одного ощущения, вещи, в обычное время невозможные, становятся естественными, потому что в этот момент сила всех запретов парализована. Их «нет» не только не дает знать о себе, но как бы вовсе не существует. Препятствия являются тогда для человека тем же, чем обтянутый тонкой бумагой обруч для циркового акробата: они не представляют уже ни малейшей помехи, так как возбуждения выше образовавшейся дамбы. "Lass sie betteln gehn, wenn sie hungrig sind!" восклицает по адресу своей жены и детей гренадер, потрясенный известием о плене своего императора; известны также случаи, когда люди, находившиеся внутри горящего театра, пролагали себе дорогу через толпу при помощи ножей.[150]
Одной из важнейших черт энергического характера, является наличность чувства, обладающего способностью разрушительно действовать на «запреты». Я имею в виду то, что в своих низших проявлениях носит название раздражительности, вспыльчивости, сварливости, а в более утонченных формах выражается нетерпением, угрюмостью, настойчивостью и суровостью. В настойчивости всегда кроется намерение жить с наибольшей затратой энергии, хотя бы это причиняло только страдания. Тут безразлично кому причиняется страдание — себе самому или другому, потому что, когда человеком овладевает деятельное настроение, то целью его становится во что бы то ни стало сломать преграду, не разбирая, что она из себя представляет, и чьи интересы затрагивает. Ничто не уничтожает с такой неудержимостью действие запретов, как гнев, потому что, его сущностью является разрушение и только разрушение (как выразился Мольтке о войне). Это свойство гнева делает его неоценимым союзником всякой другой страсти. Самые ценные наслаждения попираются нами с жестокой радостью, если они пытаются задержать взрыв нашего негодования. В это время ничего не стоит порвать дружбу, отказаться от старинных привилегий и прав, разорвать любые отношения и связи. Мы находим какую-то суровую радость в разрушении; и то, что носит название слабости характера, по-видимому, сводится, в большинстве случаев, к неспособности приносить в жертву свое низшее «я» и все то, что кажется ему милым и дорогим.[151]
До сих пор я говорил о временных изменениях в человеке, вызываемых сменою различных возбудителей. Но и более постоянные перемены в характере людей находят то же объяснение. В человеке, обладающем предрасположением к известного рода чувствам, исчезают целые ряды запретов, которые обыкновенно действуют в других людях, и на их место становятся запреты другого рода. Если человек имеет врожденную наклонность к тому или другому чувству, то жизнь его совершенно отличается от жизни обыкновенных людей, потому что ни одно из препятствий, тормозящих их действия, для него не существует. И, наоборот, если сравнить человека, стремящегося к приобретению тех или других свойств характера, с бойцом, реформатором, любовником, у которых страсть является врожденной, то сравнение это сразу укажет на неизмеримо низшую степень волевого действия по отношению к инстинктивному. В первом случае человек должен преднамеренно побеждать свои запреты; там же, где действует врожденная страсть, он, по-видимому, совсем не ощущает их, свободный от этого внутреннего трения и нервных затрат. Для Фокса, Гарибальди, генерала Бутса, Джона Брауна, Луизы Мишель, Брэдло препятствия как бы не существовали, те самые препятствия, которые для окружающих их казались непреодолимыми. Если бы все остальные люди могли бы в той же степени не обращать внимания на такие препятствия, то героев было бы гораздо больше, потому что у многих людей есть желание жить для достижения таких же идеалов, но у них не достает соответственной степени напряженности желания, способной подавить запреты 1).
Разница между инстинктивным стремлением воли и просто желанием, между идеалами, к которым стремишься, и теми, о которых только тоскуешь и сожалеешь, зависит исключительно или от силы импульса, непрестанно толкающего человека к достижению идеала, или же от силы единовременного возбуждения, повернувшего его волю на данный путь. Если имеется налицо достаточное количество любви, негодования, благородства, великодушия, восхищения, верности или экстаза отречения от личной жизни — результат всегда один и тот же. Весь сонм трусливых возражений, служащих у боязливых или подавленных мрачным настроением людей главным препятствием к деятельности, бесследно исчезает. Все наши условности,[152] вся наша робость, лень, скупость, все наши озирания на предшествовавшие случаи и просьбы о дозволении, обеспечении и безопасности, все мелкие подозрения, страх, отчаяние — куда они пропадают? Они разорвались словно паутина, словно мыльный пузырь на солнце. -
"Wo sind die Sorge nun und Noth,
Die mich noch Gestern wollt' erschlaffen?
Ich sch?m' mich dess' im Morgenroth".[153]
Поток, который мчит нас, так легко покрывает их собою, что мы даже не ощущаем их прикосновения. Освободившись от этих пут, мы высоко уносимся над низменными чувствами. Эта ясность утренней зари и это парение придает всем творческим стремлениям к идеалу характер торжественного песнопения, который нигде так сильно не заметен, как там, где руководящим чувством является чувство религиозное. "Истинный монах", говорит один итальянский мистик, "не берет с собою в путь ничего, кроме своей лиры".
Мы можем перейти теперь от этих психологических обобщений к рассмотрению тех плодов религиозных чувств, которые составляют главный предмет этой лекции. Человек, который живет религиозным чувством, образующим центр его личной энергии, и руководится в своих поступках велениями духа, резко отличается от своего прежнего плотского «я». Новое пламя, пылающее в его груди, сжигает те низкие "нет!", которые прежде владели им, и не дает ему подпасть под влияние низменной части его природы. Великодушные поступки, казавшиеся ему до сих пор невозможными, становятся теперь легкими. Жалкие условности и низкие побуждения, которые тиранически царили над ним, теряют свою власть. С души его пали оковы, ожесточение его сердца смягчилось. Все мы можем представить себе это состояние, припомнив свои чувства во время переживания того непродолжительного "умиленного настроения", которое иногда вызывают в нас жизненные испытания, театральная пьеса или прочтенный роман. Особенно, если при этом появятся слезы! Они, словно поток, пробивают образовавшую внутри нас застарелую плотину и смывают всю грязь и нагноения с нашей души, и мы чувствуем себя тогда очистившимися, смягченными и способными подпасть под влияние всякого возвышенного побуждения. У большинства из нас обычное огрубение быстро возвращается, но не то бывает со «святыми» людьми. Многие святые, даже такого энергичного характера, как Тереза и Лойола, обладали даром слез, который обыкновенно чтится церковью, как особая благодать. У этих людей умиленное настроение длится почти непрерывно. Такой же длительности может достигать экзальтация и в области других чувств. Их господство может наступить или путем постепенного развития, или как результат душевного кризиса; но как в том, так и в другом случае, они могут появиться и уже больше не исчезать.
В конце последней лекции мы видели, что эта длительность переживания зависит от обычного превосходства высших чувств над низшими, хотя в потоке душевного возбуждения могут временно одержать верх и низшие импульсы и, таким образом, может свершиться падение человека. Но легко установить документальными данными тот факт, что такие колебания иногда совсем отсутствуют, словно произошла коренная перемена в самой натуре человека. Прежде чем перейти к общему описанию свойств возродившегося характера, позвольте мне привести несколько примеров этого интересного явления. Самые многочисленные факты этого рода мы встречаем в описаниях обращения пьяниц. В последней лекции мы упоминали о возрождении мистера Гэдлея. Записки общества трезвости, основанного Мак — Алеем, также изобилуют подобными примерами.[154]
Мы говорили уже выше об оксфордском студенте, который на другой день после обращения снова напился допьяна на сенокосе, но после этого совершенно излечился от своей страсти. "С этой минуты", говорит он, "спиртные напитки потеряли для меня свою роковую силу; я никогда больше не притрагивался к ним и не чувствовал к ним влечения. То же самое произошло и с курением, — страсть к нему исчезла и никогда больше не появлялась. Точно так же исчезли и другие греховные наклонности, причем освобождение от них было во всех случаях полным и постоянным. Со времени моего обращения я уже больше не подвергался искушениям".
Привожу аналогичный случай из собрания рукописей Старбэка:
"Я пошел в театр Адельфи, где было собрание благочестивых людей, и начал молиться: "Господи! даруй мне Твою милость!" Тогда чей-то голос отчетливо произнес внутри меня: "Согласен ли ты все отдать для Господа?", после чего я услышал еще несколько вопросов и на каждый из них отвечал: "Да, Господи!" Наконец голос произнес: "Почему же ты не чувствуешь милости Господней теперь?" Я ответил: "Чувствую, Господи!" Никакой особенной радости я, однако, не почувствовал, только все мое существо исполнилось доверия. Как раз в это время собрание стало расходиться; по дороге домой я встретил на улице господина, курившего дорогую сигару, причем клубы дыма попали мне прямо в лицо; я глубоко и медленно вдохнул их в себя и почувствовал, что вся моя страсть к курению пропала. Затем, когда я продолжал путь и проходил мимо трактиров, из которых вырывались водочные пары, я почувствовал также в эту минуту, что вся моя страсть к этому проклятому напитку куда-то исчезла. Хвала Творцу!.. В течение десяти или одиннадцати долгих лет я находился в состоянии колебания с его отливами и приливами энергии. Но моя страсть к водке больше не возвращалась".
Известный случай с полковником Гардинером дает нам пример излечения в один час от сексуальных наклонностей: "Я совершенно излечился, говорит полковник, от своей склонности к этому греху, которому я был подвержен до такой степени, что, по моему мнению, только самоубийство могло спасти меня от него; а теперь все желание и вся страсть к нему исчезла без следа, и мои ощущения чисты, словно у грудного ребенка; искушение не возвращалось ко мне до сего времени". Мистер Уэбстер говорит по поводу этого случая следующее: "Я часто слышал от полковника, что он раньше был в полной власти порочных наклонностей; но лишь только на него снизошло просветление, он почувствовал, что сила Святого Духа совершенно изменила его природу, и его непорочность в этом отношении, по-видимому, стала более безукоризненной, чем в каком либо другом".[155]
Столь быстрое освобождение от привычных побуждений и наклонностей так сильно напоминает нам результаты достигаемые гипнотическим внушением, что нельзя не видеть, какую решающую роль играют в этих внезапных переворотах подсознательные влияния, как это наблюдается и в гипнотизме.[156]
Терапевты, применяющие к лечению гипнотизм, сообщают о многих случаях излечения в несколько сеансов застарелых дурных привычек, с которыми напрасно боролись их пациенты, предоставленные обычному способу лечения нравственным и физическим воздействием. Как пьянство, так и сексуальные наклонности совершенно излечивались при помощи внушения, и, по-видимому, этот способ воздействия часто вызывает во многих лицах довольно устойчивую перемену. И если допустить, что милость Бога по временам чудесным образом изливается на нас, то действует она, вероятно, этим же путем. Но вопрос, "каким образом" проявляется в этой области та или другая сила, еще не выяснен, и в данный момент нам придется расстаться с исследованием процесса внутреннего перерождения человека, оставив его, если можно так выразиться, под покровом психологической и теологической тайны. Перенесем наше внимание на плоды религиозного состояния, все равно, на каком бы из религиозных путей они ни возникали.[157]
Созревшие плоды религиозного состояния представляют собою то, что называют святостью. Святым человеком можно назвать того, кто в своей деятельности руководится религиозным чувством. Существует известный, отлившийся в определенные формы, общий для всех религий тип святого, отличительные черты которого могут быть легко указаны.[158]
Черты эти следующие:
Ощущение более широкой жизни, чем полная мелких интересов, себялюбивая жизнь земных существ, и убеждение в существовании Верховной Силы, достигнутое не только усилиями разума, но и путем непосредственного чувства. Для христианских святых олицетворением этой Силы всегда является Бог; но и отвлеченные нравственные идеалы, утопические мечты патриотов и общественных деятелей, идеалы благочестия и справедливости также могут быть нашими истинными повелителями, расширяя нашу жизнь, как это уже было описано мною, когда я говорил о реальности невидимого.[159]
Чувство интимной связи между верховной силой и нашею жизнью и добровольное подчинение этой силе.
Безграничный подъем и ощущение свободы, соответствующее исчезновению границ личной жизни.
Перемещение центра эмоциональной жизни по направлению к чувствам, исполненным любви и гармонии, по направлению к «да» и в сторону от «нет», когда дело идет об интересах других лиц.
Из этих основных условий внутренней жизни вытекают следующие душевные состояния:
Аскетизм. Отрекшийся от личной жизни человек может дойти до такой степени энтузиазма, что станет умерщвлять свою плоть. Чувство это может вполне восторжествовать над обычной властью нашего тела, и, несомненно, что святые находят наслаждение в аскетизме и лишениях всякого рода, измеряя этим способом степень своей преданности высшей силе.
Сила души. Чувство расширения границ жизни может сделаться в такой мере захватывающим, что все личные побуждения и преграды, обыкновенно представляющие такую могущественную силу, окажутся бессильными и незначительными, и перед человеком открываются новые области бодрого терпения. Опасения и заботы исчезают, и на их месте воцаряется блаженное спокойствие души. Ни небо, ни ад, не могут уже нарушить этого спокойствия.
Чистота души. Перемещение центра эмоциональной жизни влечет за собою, прежде всего, увеличение душевной чистоты. Чувствительность к душевным диссонансам увеличивается и стремление к очищению своей жизни от животных и низменных элементов становится настоятельным. Возможность соприкосновения с подобными элементами устраняется: состояние святости заставляет духовную сущность жизни уйти далеко в глубь нашего «я» и не дает ей запятнаться соприкосновением с наружным миром. У людей известного душевного склада эта потребность в чистоте духа доходит до аскетизма, и все слабости плоти преследуются тогда с неумолимой строгостью.
Милосердие. Перемещение эмоционального центра влияет также на развитие чувства милосердия и любовного отношения к окружающим. Обычные причины антипатии, которые обыкновенно ставят такие тесные границы развитию любовного отношения к людям, подавляются. Святой человек любит своих врагов и обходится с каждым нищим, как со своим братом.
Теперь я должен привести несколько примеров, иллюстрирующих результаты этого духовного состояния. Затруднение заключается лишь в выборе из бесчисленного множества примеров.
Так как ощущение присутствия высшей и дружественной силы, по-видимому, является основной чертой духовной жизни, то я и начну с него.
В рассказах о случаях обращения мы видели, до какой степени светлым и обновленным может казаться мир обращенному, да и каждый из нас, оставив даже в стороне случаи резко выраженного религиозного настроения, чувствует в известные моменты, что мировая жизнь окутывает его своим доброжелательным участием.
Когда мы молоды и здоровы, в летний день, где-нибудь в горах или в лесу, для нас иногда наступают такие часы, когда вся природа словно дышит спокойствием, такие мгновения, в которые добро и красота бытия окружают нас нежной, ласкающей атмосферой, и наш внутренний слух чутко внимает мировой тишине.
Торо так рассказывает об этом:
Однажды, после нескольких недель пребывания в лесу, я почувствовал на миг сомнение, может ли жизнь быть чистой и здоровой без присутствия поблизости других человеческих существ. Постоянное одиночество начало казаться мне неприятным. Но вот однажды, во время тихого дождя, когда меня осаждали подобные мысли, я внезапно ощутил сладостную и благотворную близость Природы, ощутил ее в шуме падающих капель дождя, в каждой вещи и каждом звуке около моего жилища и сразу почувствовал, что меня охватила как бы волна какой-то безграничной и необъяснимой дружественной силы, перед которой воображаемое благо общения с людьми показалось таким ничтожным, что я уже никогда больше не думал о нем. Каждая игла сосны дышала симпатией и дружеским участием ко мне. Я стал до такой степени ясно ощущать присутствие в природе чего-то родственного мне, что, надеюсь, ни один уголок ее не будет уже мне чуждым.[160]
B христианском сознании это чувство дружелюбного отношения со стороны всего окружающего проявляется во всей его полноте, захватывая всего человека. "Вознаграждением за утерянное чувство личной независимости, от которого человек так неохотно отказывается", говорит один немецкий писатель, "служит исчезновение из жизни христианина всякого страха, а также появление совершенно необъяснимого и не поддающегося описанию чувства внутренней безопасности, познать которую можно только на опыте, и этот опыт, пережитый однажды, никогда больше не забывается".[161]
Превосходное описание этого состояния души встречается в проповеди мистера Войсея (Voysey):
"Для миллионов верующих людей это ощущение постоянного присутствия Бога во всех делах их жизни, как днем, так и ночью, является источником абсолютного отдыха и доверчивого спокойствия. Оно рассеивает в них всякий страх за будущее. Близость Бога служит постоянной защитой от всякого рода беспокойств и ужасов. Это не значит, что они уверены в своей физической безопасности или считают себя под защитой особого благоволения со стороны Бога, в котором отказано другим людям: это лишь означает, что они находятся в таком состоянии души, при котором человек принимает с одинаковою готовностью невзгоды жизни и ее блага. Если его постигнет несчастье, он с радостью переносит испытание, потому что считает своим защитником самого Бога и верит, что с ним ничего не может случиться без воли Божией. Если же такова воля Господа, то несчастье перестает быть несчастьем и становится уже благословением. В этом, и только в этом чувстве, состоит защита верующего человека против житейских невзгод. Я, например, хотя и не обладаю сильным телом и крепкими нервами, — я вполне доволен этой защитой и не желаю никакой другой охраны от опасностей и несчастий. Будучи особенно чувствителен к боли, как и всякий, кто живет чрезмерно напряженной жизнью, я тем не менее всегда ощущаю исчезновение самой мучительной боли, словно из раны вынимается жало, когда сосредоточиваюсь на мысли, что Бог — наш любящий и неусыпный хранитель, и что ничто помимо Его воли не может повредить нам"..[162]
Религиозная литература изобилует еще более яркими описаниями подобного состояния. Перечисление их утомительно своим однообразием. Вот, например, рассказ г-жи Джонатан Эдуардс:
"Прошлая ночь", пишет эта дама, "была самою счастливою в моей, жизни. Никогда раньше в течение долгих лет, я не наслаждалась в такой степени светом, мирной тишиной и красотой неба, царившими в моей душе, причем в продолжение всего времени тело мое не принимало ни малейшего участия в этом настроении.
Часть ночи я провела в бодрствовании, лишь по временам не надолго засыпая или впадая в дремоту. Но всю ночь меня не покидало ясное и живое ощущение божественно-прекрасной любви Христа, Его близости ко мне и моей любви к Нему, — и душа моя была полна невыразимо-сладостного спокойствия. Мне казалось, что я вижу, как сияние божественной любви непрерывным потоком льется с небес из сердца Христа в мою душу, подобно потоку мягкого света. Мое сердце и душа превратились в один порыв любви к Христу, причем образовался непрерывный прилив и отлив небесной любви, и мне казалось, что я плаваю в ее ясных, нежных лучах, подобно пылинкам, плавающим в лучах солнца потоками льющегося в окна. Я думаю, что каждая минута этого ощущения была ценнее того комфорта и тех удовольствий, которыми я пользовалась в течение всей моей жизни. Это было беспрерывное наслаждение, без малейшей примеси горечи; это было чувство невыразимой сладости, в которой растаяла моя душа, и мне кажется, что это ощущение было настолько полно, насколько могла его вынести моя слабая оболочка. Разница между ощущениями во время бодрствования и сна была незначительна, но все-таки во время сна ощущение было еще более приятно.[163] Когда я проснулась рано утром на другой день, мне показалось, что мое прежнее «Я» совершенно исчезло. Я почувствовала, что мнение обо мне других людей для меня теперь не имеет значения и что интересы, касающиеся внешней жизни моего «Я», для меня столь же мало занимательны, как и интересы всякого чужого для меня человека. Слава Господа, казалось, поглотила собою всякое желание и стремление моего сердца… Погрузившись после этого еще на некоторое время в сон, я снова проснулась и стала размышлять о милосердии Бога, даровавшего мне раньше готовность умереть и ныне внушившего мне желание жить, чтобы выполнить и претерпеть все для чего он призвал меня сюда. Мне также пришла в голову мысль о милости Бога, внушившего мне полную покорность своей воле и готовность с благоговением принять всякую смерть, какую бы он ни послал мне, готовность умереть в пытках, и даже, если "а то будет Его воля во тьме отвержения. Я вспомнила, что обыкновенно предполагала прожить на земле до обычных пределов человеческой жизни. И я тотчас спросила себя, готова ли я оставаться вдали от неба и более продолжительное время? И мое сердце немедленно ответило: Да, целую тысячу лет, полных страданий и мук, если это может послужить к большей славе Господа, если даже мучения моего тела будут настолько велики и ужасны, что никто не мог бы вынести их зрелища, а душевные муки будут еще сильнее. И мне казалось, что я обрела истинную готовность, спокойствие и бодрость души, признав, что это так и должно быть, раз это необходимо для большей славы Господа, и в моей душе не осталось ни колебаний, ни сомнения, ни мрака. Слава Господня, казалось, снизошла на меня и поглотила меня всю так, что всякое страдание, все то, перед чем содрогалась моя плоть, обратилось в ничто перед ее блеском. Это состояние покорности воле Бога длилось во всей своей яркости и полноте всю остальную часть ночи, весь следующий день, всю следующую ночь и все утро в понедельник, не прерываясь и не ослабевая".[164]
Жития католических святых изобилуют примерами подобного и даже большего экстаза.
"Порывы божественной любви", читаем мы в анналах о монахине Серафике де ля Мартиньер, "часто доводили ее до состояния, близкого к смерти". Она обыкновенно кротко жаловалась на это Богу: "я не могу переносить этого ощущения", говорила она, "пощади мою слабость, иначе я умру от силы твоей любви" (Bougand: Hist. de la Bienheureuse Marguerite Marie. 1894, p. 125).
Перейдем теперь к милосердию и братской любви, которые являются обычными плодами святости и которые всегда считались теологией основными добродетелями, хотя сфера проявления их была ограничена очень тесным, кругом. Братская любовь является логическим следствием уверенности в дружественном присутствии Бога в нашей, жизни: мысль о том, что все люди братья, вытекает из нашего представления о Боге, как об отце всех людей. Когда Христос дает свои заповеди: "Любите врагов в ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за тех, которые обижают вас и ненавидят вас", Он приводит следующую причину необходимости поступать так: "Чтобы вы были детьми Отца вашего небесного, который заставляет солнце светить для добрых и для злых и посылает дождь для праведных и неправедных". Исходя из этих слов, легко поддаться искушению объяснить, как практический результат этой заповеди, и то самоунижение наряду с милосердием по отношению к другим, которые являются характерными признаками религиозного подъема. Но можно с уверенностью сказать, что эти чувства являются плодами не только определенной теистической доктрины. Мы находим их в самой высокой степени развития и у стоиков, и буддистов, и в индуизме. Они так же гармонируют с представлением об отеческой любви Бога в христианском теизме, как и со всяким душевным подъемом, вызванным чувством нашей связи со всем человечеством. Поэтому мне кажется, что мы должны считать эти чувства не подчиненными, а самостоятельными частями того сложного возбуждения, изучением которого мы заняты. Религиозный восторг, моральный энтузиазм, изумление, вызываемое познаванием вещей, и трепет, охватывающий душу в ее чувстве единения с миром — все это сложные душевные состояния, при которых вся грубость эгоизма словно исчезает, и господствующим чувством является доброжелательство. Вернее всего считать эти душевные состояния существенными и характерными для человеческой психики и не пытаться искусственно выводить их одно из другого. Подобно чувству любви или страха, религиозное настроение представляет по своей природе сложное чувство и заключает в себе милосердие, как органическую часть целого. Религиозный экстаз обладает свойством расширять душу и, пока длится его влияние, она забывает о своем "я".
Это справедливо даже и в тех случаях, когда первоначальная причина появления чувства лежит в области патологии. Жорж Дюма сравнивает, в своей поучительной работе " La Tristesse et la joie" (Paris, 1900), меланхолическое и повышенное настроение в периодическом психозе и указывает, что в то время, как меланхолия характеризуется эгоистичными побуждениями, повышенному состоянию свойственна широкая симпатия к окружающему. Больная, о которой он пишет, в периоды меланхолии, представляла тяжелое бремя для своих близких. Но с момента наступления периода повышенного настроения "симпатия и доброжелательность становятся ее главными ощущениями. Она проявляет стремление делать всем добро не только на словах, но и на деле… Она заботится о здоровье других больных, интересуется временем их выхода из больницы, старается добыть шерсти, чтобы связать некоторым из них чулки. Все время, пока она находилась под моим наблюдением, я ни разу не слышал, чтобы она высказывала в течение периода своего повышенного настроения какие-нибудь недоброжелательные мысли" (стр. 130). Далее д-р Дюма прибавляет о подобных же настроениях у своих пациентов, что в это время "они исполнены только бескорыстными побуждениями и кротостью. Душа их замкнута для зависти, ненависти и мстительности и вся находится во власти благоволения, прощения и доброты" (стр. 167).
Таким образом, существует органическая связь между радостным настроением и кротостью, и их постоянное соединение в жизни святых людей не должно вызывать удивления. В случаях обращения мы часто можем заметить, наряду с возрастающим ощущением счастья, увеличение доброжелательства к другим. "Я начал работать для других", "я начал мягче относиться к своему семейству и своим друзьям", "я заговорил с человеком, на которого прежде сердился", "я стал впечатлительным к интересам каждого человека и моя любовь к друзьям увеличилась", "я почувствовал, что каждый человек мне друг", — вот выражения из заметок, собранных профессором Старбэком (Op. cit., p. 127).
"Когда я проснулась в воскресенье утром", говорит г-жа Эдуардс, продолжая свой рассказ, который я вам недавно цитировал, "я почувствовала любовь ко всему человечеству, совершенно особенную по своей силе и нежности и нисколько не похожую на то, что я ощущала прежде. Сила этой любви мне показалась невыразимою. Мне пришло в голову, что, если бы я была окружена врагами, которые злобно и жестоко мучили бы меня, я все-таки не была бы в состоянии питать к ним другие чувства, кроме любви, жалости и горячего желания для них счастья. Никогда до сих пор я не была так далека от намерения осуждать и порицать других людей, как в это утро. В то же время я необыкновенно ясно и живо почувствовала, какую важную часть христианского учения составляет выполнение наших общественных и родственных обязанностей. Это радостное чувство, чувство нежной любви к Богу и человечеству продолжалось у меня весь день".
Чем бы ни объяснялось чувство милосердия, оно обладает способностью уничтожать обычные преграды между людьми.[165]
Привожу пример христианского непротивления злу, взятый мною из автобиографии Ричарда Уивера. Уивер был по профессии углекоп; в дни своей юности увлекался только боксом, позднее же сделался ревностным последователем евангелического учения. Склонность к драке, если не считать пьянства, была грехом, к которому, по-видимому, более всего тяготела его телесная оболочка. После его первого обращения, у него был возврат к прежним наклонностям, начавшийся с того, что он поколотил человека, оскорбившего девушку. Думая, что раз падение уже совершилось, ему придется одинаково отвечать как за один поступок, так и за несколько, он тут же напился допьяна; в этом состоянии он разбил лицо одному человеку, который недавно вызывал его на драку и упрекал в трусости, когда Уивер отказался драться, считая, что это не подобает христианину. Я упоминаю об этом происшествии, чтобы показать, какая глубокая перемена произошла в его дальнейшем поведении, которое он описывает следующим образом:
"Я спустился в штольню и увидел плачущего мальчика, у которого взрослый рабочий старался отнять тележку. Тогда я сказал рабочему:
— Том, ты не должен брать этой тележки.
Рабочий послал мне проклятие и назвал меня методистским дьяволом. Я ответил, что Бог не велит мне позволять ему грабить. Он опять выбранился и сказал, что опрокинет на меня тележку.
— Хорошо, возразил я, посмотрим, кто сильнее, дьявол и ты, или Бог и я.
И так как Бог и я оказались сильнее, чем дьявол и он, то он должен был уйти с дороги, иначе тележка раздавила бы его. Таким образом я возвратил тележку мальчику. После этого Том сказал:
— Мне очень хочется ударить тебя по лицу.
— Хорошо, ответил я, если это послужит к твоему благу, ты можешь ударить меня. После этих слов он ударил меня по лицу.
Я подставил другую щеку и сказал: "Бей еще!"
Он ударил меня еще и еще, и так пять раз. Когда я подставил ему щеку в шестой раз, он с ругательством отошел в сторону. Я закричал ему: "Да простит тебя Господь, как я тебя прощаю, и да спасет Он тебя".
Это было в субботу. Когда я вернулся из шахты домой, моя жена увидела мое распухшее лицо и спросила, что случилось. Я сказал: "Я подрался, и задал хорошую трепку своему противнику".
У нее полились из глаз слезы и она произнесла: "О Ричард, что заставило тебя драться?" Тогда я рассказал ей, как все произошло, и она возблагодарила Бога, что я не отвечал на удары Тома.
Но за меня ответил ему Бог, а Его удары производят больше действия, чем удары человека. Наступил понедельник. Дьявол стал искушать меня, нашептывая: "Люди будут смеяться над тем, что ты позволил Тому так обойтись с собой, как он это сделал в субботу". Я воскликнул: "Отойди от меня, Сатана!" — и направился к шахте.
Первым человеком, какого я там встретил, был Том. Я сказал ему: «Здравствуй», но не получил ответа.
Он спустился в шахту первым. Спустившись вслед за ним, я был очень удивлен, увидев, что он сидит около пути для вагонеток и ожидает меня. Когда я подошел к нему, он залился слезами и проговорил: "Ричард, простишь ли ты меня, что я тебя ударил?"
"Я простил тебя", отвечал я, "моли Господа, чтобы и Он простил тебя. Да благословит тебя Бог". Я подал ему руку, и каждый из нас пошел к своей работе".[166]
"Любите врагов ваших!" Обратите внимание, что этой заповедью предписывается любить не только тех, кто почему-либо вам не друг, а именно врагов ваших, деятельных, несомненных врагов. Можно, конечно, взглянуть на это как на свойственное восточным народам преувеличение, означающее только, что мы должны, насколько это в наших силах, избегать враждебного отношения к людям. Но если эти слова искренны, мы должны принимать их в буквальном смысле. За исключением некоторых случаев из жизни отдельных личностей, эта заповедь редко понималась буквально. И невольно возникает вопрос — возможно ли, вообще, такое исключительное душевное состояние, когда грани, — обыкновенно разделяющие людей, настолько сглаживаются, что даже вражда не может подавить воцарившегося в душе братского чувства. Если бы желание блага для других людей могло достигнуть такой высокой степени напряжения, то люди, находящиеся во власти этого чувства, казались бы нам сверх — человеческими существами. Их жизнь стояла бы в нравственном отношении совершенно в стороне от жизни других людей, и нельзя сказать с точностью, не имея достоверных фактических подтверждений (потому что жизнеописания христианских святых дают мало примеров подобного чувства, а примеры из истории буддизма слишком легендарны[167]), — каковы были бы результаты подобной жизни: по всей вероятности, они могли бы пересоздать мир.
С психологической точки зрения заповедь "Любите врагов ваших" не содержит в себе никаких противоречий. Она представляет собою лишь крайний предел того рода великодушия, который нам хорошо известен под видом непротивления злу. Но если последовательно проводить эту заповедь в жизнь, то при существующих условиях, это вызвало бы такой разрыв с инстинктивными источниками наших действий и с установившимися формами нашего мира, что человек, перейдя эту границу, почувствовал бы себя перенесенным в другой мир. И то состояние, в котором находится человек во время религиозного возбуждения, говорит нам, что этот мир лежит в пределах достижимости, совсем недалеко от нас.
Уменье подавлять инстинктивное отвращение необходимо не только в любви к врагам, но и в любви к каждому человеку, для нас несимпатичному. В описаниях жизни святых мы можем встретить любопытное сочетание побуждений, толкающих человека к этой любви. Немалая часть их приходится на долю аскетизма; наряду се милосердием, в его простом и чистом виде, мы можем встретить здесь и самоунижение, и желание уничтожить всякое различие между людьми из-за идеи равенства всех перед лицом Бога. Без сомнения, все эти три мотива оказывали свое влияние, когда Франциск Ассизский и Игнатий Лойола обменивались своими одеждами с грязными нищими. Под действием этих трех принципов религиозные люди посвящают свою жизнь заботе о прокаженных или одержимых другими тяжелыми болезнями. Уход за больными представляет собою обязанность, к которой религиозный человек обыкновенно чувствует сильное влечение, не говоря уже о том, что это предписывается церковью. Но в рассказах об этом виде милосердия мы встречаем иногда такие странные проявления этого чувства, которые могут быть объяснены только одновременным с ним порывом безумия, проявляющегося в крайностях самоунижения. Франциск Ассизский целовал прокаженных; про Маргариту Марию Алакквийскую, Франсуа Ксавье, св. Иоанна и др. рассказывают, что они очищали раны и язвы больных своим собственным языком; а жизнеописания таких святых, как Елизавета Венгерская и M-me де Шанталь, наполнены рассказами, которые вызывают в одно и тоже время удивление и брезгливость.