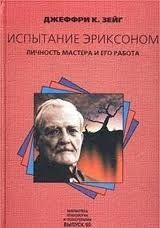Часть III. Развитие эго
Введение
Когда в моменты легкого, казалось бы, не имеющего определенной причины нарушения внутреннего равновесия мы останавливаемся и спрашиваем себя, о чем мы последнее время мечтали за своими разумными занятиями, нас ожидает ряд сюрпризов. При условии, что наша способность адекватно воспринимать себя перевешивает способность к самообману, мы обнаружим, что наши мысли и чувства постоянно совершали (с большей или меньшей частотой и/или амплитудой) возвратно-поступательное движение относительно состояния неустойчивого равновесия, наподобие детской доски-качалки. В одном направлении наши мысли бегут за вереницей фантазий о том, что нам хотелось бы иметь возможность сделать или видеть уже сделанным. Часто, выходя за рубежи и возможности нашего ограниченного существования, мы воображаем, как бы это было или могло бы быть в том случае, если бы мы реализовали фантазии о своем всемогуществе, абсолютной свободе или сексуальной распущенности. Невинность таких фантазий заканчивается, когда в погоне за своими мечтами мы хладнокровно игнорируем или беззаботно манипулируем, бездумно вредим или отказываем в существовании кому-то из самых дорогих нам людей.
Опускание нашей «доски-качалки» часто следует с необъяснимой внезапностью и стремительностью. Еще не сознавая изменения настроения, мы оказываемся охваченными мыслями о «должном»: что нам следовало бы сделать вместо того, что мы сделали; что нам сейчас следует делать, чтобы аннулировать то, что мы уже натворили; и что нам следует делать в будущем вместо того, что нам хотелось бы иметь возможность делать. И здесь безрассудные терзания по поводу «пролитого молока», боязнь того, что мы абсолютно разочаровали и настроили против себя прекрасно относившихся к нам людей, воображаемое искупление своей вины и ребяческие репетиции его возможных вариантов — вполне могут застать нас врасплох.
Третье положение — «точку покоя», или место передышки между двумя крайними положениями «доски-качалки» — вспоминать труднее, хотя оно наименее противно, поскольку в нем мы не столь импульсивны и не чувствуем ни желания, ни обязанности делать что-то отличное от того, что должны были бы, хотели бы и могли бы делать. Именно здесь, где мы менее всего осознаем себя, мы ближе всего к тому, чтобы быть собой. Только многим из нас трудно сколько-нибудь долго предаваться мечтам, не впадая рано или поздно в крайности и не нарушая чужих границ — и тогда мы снова покидаем «точку покоя», незаконно захватывая и возмещая ущерб (искупая вину).
Таким образом, мы, вероятно, имеем возможность неясно наблюдать то, что полностью появляется лишь под маской сновидения, являющегося результатом глубочайшего сна. Легко сказать, что мы «вовсе не хотим» того, что демонстрируется на закрытом просмотре в нашем внутреннем кинотеатре. К несчастью для нашего самолюбия (но, мы надеемся, в конечном счете к счастью для рода человеческого) психоаналитический метод Фрейда показал, что мы способны сознавать, объяснять и нейтрализовывать посредством фантазии, игры и сновидений лишь малую толику этих взлетов и падений; остаток не доступен сознанию и, вместе с тем, обладает заметным влиянием. Оставаясь бессознательным, он находит свой способ перейти в иррациональное личное действие или в коллективный круговой процесс узурпирования и искупления.
Практика психоаналитического наблюдения воспитывает привычку отыскивать точки наибольшего внутреннего сопротивления и сосредотачиваться на них. Наблюдающий за взрослым пациентом психоаналитик просит его свободно говорить обо всем, что приходит в голову, и следит за порогом вербализации не только для тех тем, которые легко переходят в слова в форме прямого аффекта, ясного воспоминания или решительного утверждения, но и для тем, которые остаются трудноуловимыми. Такие темы могут попеременно представать то полузабытыми и замаскированными как во сне, то резко отвергаемыми и бесстыдно проецируемыми на других, то вяло вымучиваемыми и неловко избегаемыми, или сопровождаться молчаливым замешательством. Другими словами, психоаналитик ищет маски и пропуски, следит за изменением количества и качества сознавания в том виде, как оно выражается во внешне добровольной и старательной вербализации.
Рассматривая различные культуры, наблюдатель-психоаналитик оценивает темы, которые предстают перед ним в динамическом масштабе коллективного поведения: в одном варианте как историческая память, в другом — как мифологическая теология; в одной маске возобновляемые в серьезных ритуалах, в другой — выплескиваемые в веселых играх, в третьей — полностью выражаемые в строгом избегании. Целые комплексы таких тем, вероятно, можно распознать в культурных особенностях сновидений, как и в индивидуальных сновидениях, в комических или злобных проекциях на соседа, дочеловеческих существ или животных. К тому же, они могут репрезентироваться в отклоняющемся поведении, доступном либо избранным, либо проклятым, либо тем и другим.
Применяя именно такой общий подход к племенам сиу и юрок, мы установили связующее звено между инфантильными темами и темами огромного коммунального и религиозного пыла. Мы засвидетельствовали тот факт, что индеец сиу, находясь в высшей точке религиозных испытаний, протыкает себе грудь маленькими колышками, привязывает их к кожаному ремню, ремень — к вкопанному в землю столбу, а затем, в состоянии характерного транса, пятится в танце до тех пор, пока ремень не натягивается — и колышки разрывают мышцы груди, так что льющаяся ручьями кровь свободно сбегает по его телу. Мы попытались найти смысл в таком экстремальном поведении. Как уже было сказано, этот ритуал, возможно, является символической реституцией, необходимость которой обусловлена решающим событием, когда-то вызвавшим у сиу сильный конфликт между его гневом на фрустрирующую мать и той частью его самого, которая постоянно чувствует себя зависимой и нуждающейся в верности, в том виде как она обеспечивается любовью родителей в этом мире и родительскими силами в сверхъестественном.
Индейцы племени юрок, организовавшись раз в году на великий инженерный подвиг перекрытия реки запрудой, что приносит им запас продовольствия на зиму, дают себе волю в сексуальных отношениях и перестают заботиться об искуплении и очищении; вследствие чего они достигают отрезвляющей стадии насыщения и восстанавливают в правах самоограничение, которое гарантирует еще на один год божественное право преследовать и ловить священного лосося.
В обоих случаях, как мы полагаем, цикл узурпации и искупления репрезентирует коллективные магические средства принуждающего характера.
Мы считаем, что в психоанализе мы научились до некоторой степени разбираться в этом цикле, поскольку то и дело наблюдаем его в индивидуальных историях болезни. У нас есть названия для давления чрезмерных желаний («Оно») и для деспотического гнета совести («Супер-эго»), и мы располагаем подходящими теориями двух экстремальных фаз, когда люди или народы находятся во власти одной или другой из этих сил. Но если мы попытаемся определить состояние относительного равновесия между хорошо известными нам крайностями, если спросить, что характеризует индейца, когда он — спокойный индеец, полностью поглощенный выполнением домашних сезонных работ, наше описание этого позитивного состояния выразится в одних только отрицаниях. Мы стремимся отыскать неприметные признаки того, что он продолжает обнаруживать в мельчайших эмоциональных и идеационных изменениях того же самого конфликта, который, по выражению Фрейда, проявляется в изменении настроения от неопределенной тревожной депрессии через некую промежуточную стадию к состоянию преувеличенного благополучия и обратно. Поскольку психоанализ развивался как психопатология, в начале ему практически нечего было сказать об этой «промежуточной стадии», за исключением того, что ни маниакальная, ни депрессивная тенденция в это время не проявляются сколько-нибудь заметно; и что «супер-эго» временно не находится в состоянии войны, «оно» согласилось на короткое перемирие и, таким образом, на полях сражений «эго» царит кратковременное затишье.
Давайте сделаем небольшое отступление, чтобы проследить историю термина «эго» до его истоков в психоанализе. «Оно», по Фрейду, есть древнейшая провинция души, как в индивидуальном плане (ибо он полагал, что маленький ребенок есть «сплошное оно»), так и в филогенетическом плане (поскольку «оно» является отложением в нас всей эволюционной истории). «Оно» включает в себя все то, что оставляют в нашей организации реакции амебы и импульсы обезьяны, слепые спазмы нашего внутриутробного существования и нужды нашей постнатальной жизни, иначе говоря, все, что делает нас «простыми тварями». Название «Оно» («Id»), конечно, указывает на предположение, что «эго» оказывается прикрепленным к этому безличному, этому животному слою наподобие верхней, человеческой половины кентавра к его лошадиному низу — с той лишь разницей, что «эго» считает такую комбинацию опасной и навязанной, тогда как кентавр использует ее наилучшим образом. В таком случае, «оно» обладает некоторыми из пессимистических качеств «воли» Шопенгауэра, той суммы всех вожделений, которые нужно побороть, прежде чем мы можем заявить о себе, как о настоящем человеке.
Другая внутренняя инстанция, обнаруженная и описанная Фрейдом, есть «супер-эго», своего рода автоматический регулятор, ограничивающий выражение «оно» путем противопоставления ему требований совести. И здесь акцент поначалу ставился на том чуждом бремени, которое «супер-эго» возлагает на «эго». Ибо это накладываемое сверху, «старшее эго» было «(интериоризованной) суммой всех ограничений, которым эго должно подчиняться». Но совесть тоже содержит следы жестоких сил подавления в человеческой истории, то есть угрозу увечья или изоляции. В моменты самобичевания и депрессии «супер-эго» использует против «эго» столь архаические и варварские методы, что их трудно отличить от методов безрассудно импульсивного «оно». Так же, как и в жестокостях религиозной или политической инквизиции трудно увидеть, где кончается простое садистское извращение и начинается совершенно искреннее благочестие.
Таким образом, «эго» обитает между «оно» и «супер-эго». Постоянно балансируя между этими крайностями и парируя их экстремистские методы, «эго» остается настроенным на историческую действительность, проверяя образы восприятия, отбирая воспоминания, направляя действия и другими способами интегрируя способности индивидуума к ориентировке и планированию. Чтобы обезопасить себя, «эго» держит на службе «защитные механизмы». Они, в противоположность более разговорной манере открыто выражать «защитную» позицию, представляют из себя бессознательные устройства, которые позволяют индивидууму отсрочивать удовлетворение, находить субституты и иными путями достигать компромиссов между побуждениями «оно» и принуждениями «супер-эго». Такие компромиссы мы встречали в «контрфобической» защите Сэма — его склонности нападать в тех случаях, когда он испуган. Мы распознали в круговой абстиненции морского пехотинца защитный механизм «самоограничения» и истолковали его преувеличенную добродетельность как «сверхкомпенсацию» всей той ярости и злобы, что он накопил за свое полное лишений детство. Другие защитные механизмы будут описываться по мере того, как мы будем обращаться к соответствующим клиническим случаям. Однако при изучении этой области нам хотелось бы выйти за пределы только защитных аспектов «эго», которые были столь убедительно сформулированы Анной Фрейд в ее книге «Эго и механизмы защиты».
«Эго становится победоносным, когда его защитные меры… дают ему возможность ограничивать развитие тревоги и так преобразовывать инстинкты, что даже в трудных обстоятельствах удовлетворение хотя бы отчасти, но достигается, и тем самым устанавливаются наиболее гармоничные (из возможных) отношения между «оно», «супер-эго» и силами внешнего мира.» 48
48 Anna Freud, The Ego and the Mechanisms of Defence, The Hogarth Press and the Institute of Psycho-Analysis, London, 1937.
В таком случае «эго» есть «внутренний институт», развиваемый для охраны того порядка внутри индивидуумов, от которого зависит весь внешний порядок. «Эго» — это не «индивидуум» (= отдельный человек) и не его индивидуальность, хотя для нее «эго» необходимо. С целью прояснить природу этой необходимости, мы опишем в следующей главе трагическую неудачу эго, образчик психопатологии, относящийся к тяжелому нарушению порядка внутри индивидуума. Мы увидим борьбу еще совсем неопытного эго за связность и согласованность и… его поражение. Далее, обратившись к играм нормального детства, мы проследим за тем, как дети первое время не справляются, а затем добиваются прочного успеха в преодолении худшей из своих детских тревог.