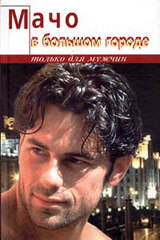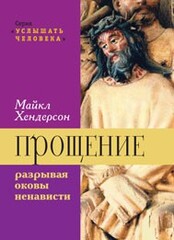В. НЕФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА, ИЛИ ДИСКУРС СУБЪЕКТА
II. Маргинальная система: коллекция
ДЕСТРУКТУРИРУЕМАЯ ВЕЩЬ: ПЕРВЕРСИЯ
Эффективность такой системы обладания прямо связана с ее регрессивностью. А регрессивность связана с ее перверсивным модусом. Хотя наиболее четко, в наиболее кристаллизованной своей форме перверсия по отношению к вещам проявляется в фетишизме, мы вполне можем разглядеть, что и во всех частях системы, организуясь согласно одним и тем же целям и модусам, обладание/страсть к вещам представляет собой, так сказать, смягченный модус сексуальной перверсии. Действительно, подобно тому как в обладании разыгрываются дискретность серии (реальной или виртуальной) и выбор одного привилегированного элемента, так же и сексуальная перверсия состоит в том, что другой человек как объект желания не может быть понят в своей целостно-личностной единичности, а лишь как нечто дискретное; он превращается в парадигму различных эротических частей своего тела, одна из которых оказывается объектным кристаллизатором желания. Эта женщина — уже не женщина, а лоно, грудь, живот, бедра, голос или лицо, что-то одно в особенности[*]. Тем самым она становится «предметом», образуя серию, элементы которой перебираются желанием, а означаемым серии реально является уже вовсе не любимый человек как личность, а сам же субъект в своей нарциссической субъективности, коллекционирующий-эротизирующий сам себя и делающий из любовных отношений самонаправленный дискурс. Это неплохо иллюстрирует собой вступительная сцена фильма Ж.-Л.Годара «Презрение», где на фоне кадров «обнаженной натуры» происходит следующий диалог:
– Ты любишь мои ступни? – спрашивает она. (Заметим, что на протяжении всей сцены она разглядывает себя в зеркале, и это немаловажно: через свое отражение она сама себя расценивает как зрелище, то есть нечто уже обладающее пространственной дискретностью.)
– Да, люблю.
– Ты любишь мои ноги?
– Да.
– А мои бедра?
– Да, – говорит он опять, – я их люблю. (И так далее снизу вверх, вплоть до волос.)
– Значит, ты любишь меня целиком.
– Да, я люблю тебя целиком.
– Я тоже, Поль, – говорит она, резюмируя всю ситуацию.
Возможно, авторы фильма усматривали в этом здоровую алгебраичность демистифицированной любви. Однако такое абсурдное воссоздание желания по частям есть нечто в высшей степени чуждое человеку. Распадаясь на серию своих телесных частей и превращаясь в чистый предмет, женщина далее и сама включается в серию всех прочих женщин-предметов, по отношению к которой она лишь один элемент из многих. Согласно логике такой системы возможна лишь одна деятельность — игра подстановок. Именно это мы и и отмечали как источник коллекционерского удовольствия.
При любовных отношениях такое раздробление предмета на детали в аутоэротической системе перверсии тормозится живой целостностью другого человека[*]. Зато в отношении материальных вещей оно является правилом, особенно когда речь идет о достаточно сложных механизмах, поддающихся мысленной разборке. Например, об автомобиле можно сказать «мои тормоза», «мое крыло», «мой руль». Говорят «я торможу», «я сворачиваю», «я трогаюсь». В плане обладания все органы, все функции вещи могут быть по отдельности соотнесены с нашей личностью. Здесь имеет место не персонализация на социальном уровне, а процесс проективного характера — то, что характеризуется глаголом «быть», а не «иметь». Применительно к лошади такое смешение было бы невозможно, хоть она и явилась для человека необычайно мощным средством превзойти себя. Дело в том, что лошадь не собрана из отдельных деталей, а главное, она обладает полом. Можно сказать «моя лошадь» или «моя жена», но на этом именование такого рода собственности прекращается. Все, что обладает полом, противится проективному раздроблению, а стало быть, и тому способу освоения, который мы охарактеризовали как аутоэротическую страсть и, в предельном случае, как перверсию[*]. По отношению к живому существу еще можно сказать мое, но уже нельзя сказать я, как это говорят об автомашине, символически присваивая себе ее функции и органы. Регрессия здесь не безгранична. Лошадь может получать очень сильную психическую нагрузку (такими мотивами, как скачка полевого сношения или мудрость Кентавра: его лицо — пугающий фантазм, связанный с образом отца, а в его спокойствии — также и ограждающая сила Хирона-воспитателя) — но эта нагрузка никогда не бывает упрощенно-нарциссической, не принимает форму обедненно-инфантилизированной самопроекции в ту или иную структурную деталь автомобиля (по аналогии и едва ли не по смешению с разъятыми составными частями и функциями человеческого тела). Лошадь обладает символической динамикой лишь постольку, поскольку невозможно отождествить себя с ее частными функциями и органами, а значит и исчерпать отношения с нею в аутоэротическом «дискурсе», имеющем дело с разрозненными членами.
Подобная фрагментация и регрессия предполагают и особую технику, технику автономизации частичного объекта. Так, женщина, распавшись на синтагму различных эрогенных зон, обречена на чистую функциональность наслаждения, которой и соответствует некоторая эротическая техника. Это объективирующе-ритуализирующая техника, маскирующая страх личностного отношения, а также дающая субъекту реальное (жестуальное, действенное) алиби и внутри самой фантазматической системы перверсии. Действительно, всякая психическая система нуждается в каком-то «обеспечении», в какой-то связи с реальностью, в каком-то техническом «обосновании», то есть алиби. В этом смысле акселератор в выражении «я даю газ», или же фара в выражении «моя фара», или же весь автомобиль в выражении «моя машина» служат реально-технической опорой для нарциссического обращения вспять психических импульсов, которым не дают дойти до реальности. То же самое происходит и в эротической технике, которая признает себя таковой: благодаря ей мы из генитальной сферы, где возникает реальность и удовольствие, попадаем на уровень регрессивно-анальной серийной систематики, для которой эротическая жестуальность представляет собой лишь алиби.
Как мы видим, техника отнюдь не всегда бывает «объективной». Она объективна тогда, когда она социализирована, включена в технологию и формирует новые структуры. Напротив, в бытовой сфере она всякий раз оказывается удобным полем для регрессивных фантазмов, потому что в ней всегда заложена некоторая возможность деструктурации. Будучи собраны и смонтированы вместе, детали технического предмета обладают связной логикой. Но в нашем сознании такая структура страдает нестойкостью: своей функцией она связана с внешним миром, и для нашей души она формальна. Структурно иерархизированные элементы могут в любой момент распасться и сделаться эквивалентными друг другу в парадигматической системе, где субъект развертывает сам себя. Вещь изначально дискретна и легко дисконтинуализируется мыслью — тем более легко, что вещь (особенно техническое изделие) уже не связана, как прежде, с человеческой жестуальностью и энергией. Автомобиль потому и представляет собой, в сравнении с лошадью, такой прекрасный предмет нарциссической манипуляции, что для управления лошадью необходимы мускульные движения, жестуальность равновесия, – тогда как управление машиной, напротив, является упрощенным, функциональным и абстрактным.