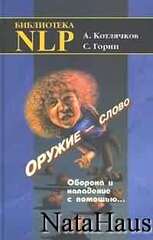Часть VI. Бытийное познание.
19. Заметки о невинном познании.
Понятие "сущность" (suchness) является синонимом японского слова соно-мама, которое рассматривается подробнее в книге Д. Судзуки "Мистицизм: христианство и буддизм" (Suzuki, 1957), в особенности на с. 99 и 102. Буквально оно означает "таковость" (as-it-isness) вещей. Это и некоторые другие понятия указывают на ту особенную и характерную целостность, или гештальт, которая и делает предмет тем, что он есть, придает ему конкретную идеографическую сущность, отличающую его от всего остального.
Старый психологический термин "кволе" (quale) в применении к ощущениям имеет то же значение, что и слово "сущность". Кволе является тем не поддающимся описанию или определению качеством, которое и отличает красный цвет от синего. Различие между красным цветом и синим состоит именно в "красноте" первого, т. е. в его сущности.
Мы имеем в виду примерно то же самое, когда говорим о ком-то: "В этом он весь!". Для нас это означает, что то, что он сделал, было вполне ожидаемо, вполне соответствует его натуре, характерно для него.
Впервые определяя слово "соно-мама" на с. 99 своей книги, Д. Судзуки пишет, что оно подобно понятию "единое сознание", оно означает то же, что и "жизнь в свете вечности". Д. Судзуки цитирует Уильяма Блейка, утверждая, что поэт говорил о соно-мама, когда писал: "Держать бесконечность в ладони и вечность вместить в один час". Здесь Д. Судзуки явно подразумевает, что сущность, или соно-мама, есть, по сути, то же самое, что бытийное познание (Maslow, 1962), однако он также пишет, что "видение вещей соно-мама", то есть видение вещей в их сущности, идентично конкретному восприятию.
Описание в работе К. Гольдштейна (Goldstein, 1939) пациентов с повреждениями головного мозга, чье видение мира редуцировалось исключительно до конкретного (например, редуцированность цветового зрения этих пациентов, сопровождающаяся потерей способности к абстракции), во многом подобно пониманию сущности по Судзуки. Люди с повреждениями мозга видят не обобщенную категорию зеленых или синих цветов, но каждый отдельный цвет в его сущности, независимым от других, не лежащем на каком-либо континууме, не хуже и не лучше, не зеленее или синее другого, но просто так, как если бы этот цвет один только и существовал во всем мире, и его не с чем бы было сравнить. Это качество — несопоставимость — я считаю одним из элементов сущности. Если я прав в таком понимании, тогда нам нужно проявить чрезвычайную осторожность, чтобы не допустить возможного смешения между редуцированностью до конкретного по Голдштейну и способностью здорового, не редуцированного, человека к свежему видению и конкретному восприятию. Мы также должны уметь отличать все это от бытийного познания в целом, поскольку последнее может быть по своему существу не только конкретным, но и являться абстракцией в различных значениях этого слова, не говоря о том, что оно может объять весь космос.
Также желательно отличать все вышеупомянутое от пикового переживания как такового (Maslow, 1962), близкого к описываемому Д. Судзуки переживанию сатори. Так, в моменты пиковых переживаний всегда возникает бытийное познание, но оно может проявляться и независимо от них, или даже при переживаниях трагических. Затем мы должны провести грань между двумя типами пиковых переживаний, а также двумя типами бытийного познания. В первом случае осуществляется описанное Р. Бёкком (Bucke, 1923) и разными мистиками космическое сознание, в котором отражается весь космос и все представляется связанным со всем, включая и самого воспринимающего. Мои испытуемые описывали это так: "Я чувствовал свою принадлежность ко Вселенной, и я видел свое место в ней. Я ощущал свою важность, но одновременно и свою незначительность, так что, хотя это и заставляло меня быть смиренным, одновременно я чувствовал себя важным и нужным". "Я определенно был очень важной частью мира, я был, так сказать, в семье и при этом находился не снаружи, заглядывая вовнутрь, не отдельно от всего мира, не на скале, глядя через пропасть на другую скалу, но в самом сердце вещей, в семье, в огромной семье, к которой я принадлежал, вместо того, чтобы быть сиротой или приемышем или чужаком, который через окно заглядывает в дом с улицы. " Это лишь один из типов пикового переживания, один из типов бытийного познания. Его следует отличать от другого типа, при котором возникает очарованность и сознание предельно сужается до одного перцепта — например, лица или картины, ребенка или дерева — и при котором полностью забывается весь остальной мир, как забывается и свое Я. Поглощенность и очарованность перцептом здесь настолько сильны, весь остальной мир забывается настолько полно, что начинает ощущаться трансценденция или, по крайней мере, пропадает самосознание, исчезает самость, исчезает мир, и перцепт заполняет собой весь космос. Этот перцепт воспринимается так, как если бы он являлся целым миром. В этот момент он единственное, что вообще существует. Таким образом, все законы, действующие при восприятии целого мира, теперь распространяются на восприятие этого отдельного перцепта, которым мы очарованы и который стал для нас всем миром. Это и есть два различных типа пиковых переживаний и два различных типа бытийного познания. Д. Судзуки же говорит одновременно об обоих, не проводя различия между ними. В некоторых местах он говорит о том, как можно увидеть весь мир в маленьком полевом цветке. В других — рассматривает сатори с точки зрения религии и мистики как момент идентификации с Богом, или с небом, или со всей Вселенной.
Эта сконцентрированная и изолированная зачарованность во многом подобна японскому понятию муга. Это состояние, в котором вы делаете что-то от всей души, не думая ни о чем другом, без всяких сомнений, без какой-либо критичности или сдержанности. Это чистое, идеальное и абсолютное спонтанное действие без каких-либо внутренних ограничений. Оно возможно только тогда, когда самость трансцендирована или забыта.
О состоянии муга часто говорят так, как если бы оно было тем же самым, что и состояние сатори. В значительной части литературы по дзен-буддизму муга рассматривается как полная поглощенность тем, что человек делает в данный момент — например рубкой дров, которой он отдает всю душу и силу. Однако последователи дзен-буддизма также говорят о муга как о мистическом единении с космосом. Между тем, эти два аспекта во многом различны.
Мы также должны критически относиться к нападкам дзен-буддизма на абстрактное мышление, исходящим из того, что будто только конкретная сущность имеет какую-либо ценность, а абстракция представляет лишь опасность. С этим, конечно же, мы не можем согласиться. Это было бы добровольной саморедукцией к конкретному, способной привести к неблагоприятным последствиям, столь точно описанным К. Гольдштейном.
Из вышесказанного становится ясно, что мы, психологи, не можем считать конкретное восприятие единственной истиной или единственным благом, а абстракцию — исключительно опасностью. Мы должны помнить определение самоактуализирующейся личности как обладающей способностью и к конкретному и к абстрактному восприятию в зависимости от ситуации; мы также не должны забывать, что такой человек способен получать удовольствие и от того и от другого. В книге Д. Судзуки на с. 100 приведен прекрасный пример, обосновывающий этот взгляд. Маленький цветок видится в своей сущности и одновременно воспринимается как единый с Богом, полный божественного великолепия, стоящий в лучах света вечности. Здесь цветок видится не просто исключительно конкретной сущностью, но воспринимается либо как совпадающий со всем миром, исключающий все остальные вещи, либо воспринимается в рамках бытийного познания как символизирующий весь мир, то есть как "бытийный цветок", а не "дефицитарный цветок". Когда цветок воспринимается как бытийный, все сказанное о вечности и таинстве бытия, божественном великолепии и т. д. остается справедливым, и все видится в бытийном мире — то есть, видя цветок, мы через него как бы охватываем одним взглядом весь бытийный мир.
Д. Судзуки критикует Теннисона за то, что герой его стихотворения сорвал цветок, а затем предался над ним рефлексии и абстракции, возможно, даже и препарировал его. Д. Судзуки представляет это нехорошим поступком. Он противопоставляет ему то, как поступил в сходной ситуации японский поэт: не сорвал цветок, не искалечил его. Он оставил цветок расти на том же месте. Цитируя Д. Судзуки: "Он не отделяет цветок от единства его окружения, он созерцает его в его состоянии соно-мама не только сам по себе, но и во всей ситуации, в которой тот находится — ситуации в самом широком и глубоком смысле этого слова" (с. 102).
Далее Д. Судзуки цитирует Томаса Трагерна (с. 104). Первая цитата очень удачно иллюстрирует единое сознание как слияние бытийного и дефицитарного миров, такова и вторая цитата на той же странице. Сложности возникают, когда Д. Судзуки обсуждает состояние невинности так, как будто единое сознание, слияние преходящего и вечного в чем-то подобно состоянию ребенка, который, согласно словам Т. Трагерна (с. 105), обладает первобытной невинностью. Д. Судзуки говорит, что необходимо вернуться в Эдем, вновь обрести рай, где древо познания еще не начало плодоносить. Вкусив запретный плод познания, мы тем самым обрели нашу неизменную привычку интеллектуализации. Но, если быть последовательным, мы никогда не забудем нашу изначальную обитель невинности". Д. Судзуки связывает эту библейскую невинность, это христианское понимание невинности, с "бытием соно-мама", то есть с видением сущности. Это, по моему мнению, весьма грубая ошибка. Христианский страх знания, отраженный в притче о Эдеме, в которой именно знание приводит к грехопадению Адама и Евы, навсегда сохранился в христианстве в виде некоторого антиинтеллектуализма, боязни знающего, ученого и т. п., наряду с уверенностью в том, что вера, набожность или простота в духе невинности Св. Франциска Ассизского в определенном смысле лучше, чем интеллектуальное знание. И в некоторых областях христианской традиции существует даже убежденность, что эти два типа познания взаимоисключающие: если вы знаете слишком много, то не можете обладать простой, невинной верой, а поскольку вера, конечно же, лучше, чем знание, не стоит слишком усердно учиться или заниматься, или быть ученым, или кем-то еще в этом роде. Также абсолютно достоверно, что все известные мне "примитивные" секты однозначно антиинтеллектуальны и не доверяют учению и знанию, поскольку это исключительно "свойство Господне, а не человеческое"22.
22 Я размышлял над возможностью того, что "познание" в этой легенде также означает "познание" в старом значении этого слова — совокупление, то есть, съев яблоко, люди открыли запретную сексуальность, потеряв невинность именно в этом смысле, а не согласно традиционной интерпретации. Отсюда, возможно, и проистекает традиционная христианская антисексуальность.
Но невинность невежественная — это не то же самое, что невинность мудрая и искушенная. Более того, конкретное восприятие ребенка и его способность воспринимать сущность есть определенно нечто иное, чем восприятие конкретности и сущности, присущее самоактуализирующемуся взрослому. Они сильно различаются хотя бы по следующему признаку. Ребенок не был редуцирован до конкретного, он даже еще не дорос до абстрактного. Он невинен, поскольку он невежествен. Это очень сильно отличается от "второй невинности", или, как я ее называю, "второй наивности" умудренного, самоактуализирующегося взрослого, познавшего весь дефи-цитарный мир со всеми его пороками, раздорами, слезами и нищетой, но способного, тем не менее, встать над ними и обрести интуитивное сознание, в котором он может увидеть бытийный мир, увидеть красоту космоса среди всех пороков, раздоров и слез. Через поражения, или в поражениях, он способен увидеть совершенство. Это нечто абсолютно отличное от невежественной детской невинности, рассматриваемой Т. Трагерном. Описываемое им состояние невинности определенно отличается от невинности, достигаемой святыми или мудрецами, людьми, прошедшими через дефицитарный мир, имевшими с ним дело и боровшимися с ним, испытавшими в столкновении с ним многие несчастья, но все же способными трансцендировать его.
Эта взрослая невинность, или невинность самоактуализирующихся людей, вероятно, во многом подобна и, может быть, даже синонимична объединяющему сознанию, в котором бытийный мир сливается и объединяется с дефицитарным. Таким образом, можно выделить здоровое, реалистичное, опирающееся на знание, человечное совершенство, более или менее достижимое для сильных, самоактуализирующихся людей и прочно основывающееся на наиболее полном знании дефицитарного мира. Оно в достаточной степени отличается от бытийного познания ребенка, который еще ничего не знает о мире и о котором можно сказать, что он обладает невежественной невинностью. Отличается это и от воображаемого мира некоторых религиозных людей, например Т. Трагерна, в котором весь дефицитарный мир отрицается (во фрейдистском значении этого слова). Они смотрят на него, но не видят. Они отказываются признать его существование. Эта нездоровая фантазия подобна восприятию исключительно бытийного мира без какой-либо доли дефицитарного. Это нездоровое заблуждение, поскольку основывается на отвержении, или на детском невежестве, или недостатке знаний и опыта.
Все это позволяет различать высшую нирвану и нирвану низшую, единение восходящее и единение нисходящее (Maslow, 1959), высокую регрессию и регрессию низкую, здоровую регрессию и нездоровую. Многие религиозные люди поддаются искушению отождествлять восприятие неба, или восприятие бытийного мира, с регрессией к детству или к невежественной невинности, или, другими словами, с возвратом в Эдем до момента вкушения запретного плода, что практически одно и то же. Это то же самое, что утверждать: только знание делает человека несчастным. Далее из этого делается вывод: "Будь тогда глупым и невежественным, и ты никогда не будешь несчастным". "Тогда ты будешь в раю, тогда ты будешь в Эдеме, тогда ты никогда не узнаешь ничего о мире слез и раздоров."
Но существует общий принцип — в одну реку дважды не войти. По-настоящему регрессировать невозможно, взрослый в действительности не может стать ребенком. Нельзя полностью устранить знание, нельзя вновь обрести невинность — раз узнав что-то, невозможно обратить вспять этот акт познания. Познание необратимо, восприятие необратимо, необратимо и знание — поэтому невозможно войти в одну реку дважды. Даже если полностью отказаться от своего разума или силы, все равно невозможно по-настоящему регрессировать. Нельзя стремиться к некоему мифическому Эдему, и взрослый не должен стремиться вернуться в детство, поскольку он никогда не сможет вновь его обрести. Единственная реальная альтернатива для человека — это осознать возможность движения вперед, взросления, достижения второй наивности, умудренной невинности, объединяющего сознания, такого понимания бытийного познания, которое бы делало его возможным посреди дефицитарного мира. Только таким образом, только посредством развития, реального знания, только наивысшей зрелостью можно трансцендировать дефицитарный мир.
В связи с этим необходимо подчеркнуть разницу между сущностью (а) людей, редуцировавшихся к конкретному, в том числе пациентов с повреждениями головного мозга; (б) конкретного восприятия ребенка, еще не доросшего до абстракции; (в) конкретного восприятия здорового взрослого, восприятия, вполне совместимого со способностью к абстракции.
Такое возражение распространяется также и на натур-мистицизм в духе У. Вордсворта. Ребенок далеко не лучшая модель самоактуализации, он не лучшая модель бытийного познания, не лучшая модель конкретного восприятия, или соно-мама, или восприятия сущности. Ведь он не трансцендирует абстрактное, он еще даже до него не дошел.
Также стоит указать в связи с высказываниями М. Экхарта, Д. Судзуки и многих других религиозных мыслителей на то, что их определение объединяющего сознания как слияния вечного с временным основывается на полном отрицании временного. (Например, вспомним слова М. Экхарта о "настоящем моменте".) Эти люди балансируют на грани отрицания реальности мира ради того, чтобы считать реальным только священное, вечное или Божественное. Но все это следует видеть во временном, священное можно и нужно видеть через мирское. Бытийный мир нужно видеть через дефицитарный мир. Я также добавлю, что только так и можно его увидеть, поскольку нет никакого бытийного мира в топографическом смысле как некой области на противоположном берегу или как чего-то кардинально отличного от мира реального, лежащего в какой-то другой плоскости, как чего-то неземного в аристотелевском смысле. Есть только один мир, только один, и задача слияния бытийного и дефицитарного миров состоит на самом деле в способности сохранения одновременно и бытийного и дефицитарного отношений к одному миру. Признать что-то иное означает попасть в западню потусторонности, которая рано или поздно порождает мифы о рае над облаками, о каком-то месте, подобном другому дому или другому пространству, которое мы можем видеть, ощущать и чувствовать и в котором религия становится потусторонней и сверхъестественной, а не земной, человечной и естественной.
Поскольку разговор о бытийном мире и дефицитарном мире может быть неправильно истолкован как разговор о двух различных мирах, существующих в физическом пространстве и физическом времени и являющихся отделенными и оторванными друг от друга, мне стоит подчеркнуть, что когда я говорю о бытийном и дефицитарном мирах, я на самом деле имею в виду два типа восприятия, два типа познания, два отношения к одному миру. Возможно, лучше говорить об объединяющем отношении, а не объединяющем сознании. Примером ошибки, которую можно избежать, рассматривая бытийное и дефицитарное познание просто как два отношения или типа восприятия, является место в книге Д. Судзуки, где он говорит о переселении душ, воплощении, реинкарнации и других подобных вещах. Это результат рассмотрения этих двух типов отношения как реальных объективных вещей. Если говорить об этих двух типах познания как об отношениях, тогда все переселения душ и т. п. становятся просто неуместными, как были бы они неуместны при объяснении возникновения нового восприятия симфонии Бетховена у человека, прошедшего курс теории и структуры музыки. Это также означает, что структура и смысл симфонии Бетховена существовали до того, как был прослушан этот курс, — просто с глаз человека сняли определенные шоры. Теперь, когда он обрел новое отношение, узнал, что ему следует искать и как это найти, он может воспринимать и понимать структуру музыки, ее смысл и то, что Бетховен хотел ею выразить, о чем он хотел поведать людям.