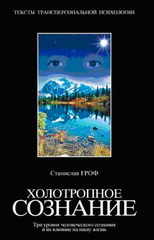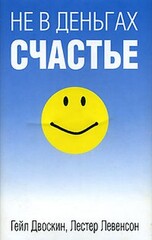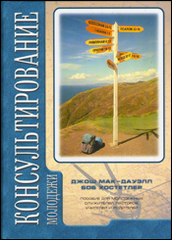Воображаемое. Феноменологическая психология воображения
Предисловие. Размышления Ж.-П. Сартра о воображении и воображаемом. (Я. А. Слинин)
Образное сознание полагает свой объект как некое небытие
1
В самом начале своей книги Сартр выделяет четыре характеристики воображения: 1) образ есть некое сознание, 2) феномен квазинаблюдения, 3) образо-сознание полагает свой объект как некое небытие, 4) спонтанность. До сих пор мы имели дело с тем, что относится к первой из них. Прежде обратимся к рассмотрению третьей из этих характеристик, так как то, что связано с ней, представляется мне более существенным, чем то, что связано со вторым и четвертым.
Итак: «образо-сознание полагает свой объект как некое небытие». Что кроется за этой формулировкой? Сартр хочет сказать, что воображаемый объект — это такой объект, которого нет здесь и теперь. Когда я воспринимаю какой-нибудь объект при помощи органов ощущений, то ясно, что он реально существует в данный момент и в данном месте.
Воображение же, согласно Сартру, дает только такие объекты, которые не присутствуют в реальности в данное время и в данном месте. Неприсутствие объекта в данный момент и в данном месте является, с точки зрения французского мыслителя, необходимым условием того, чтобы он мог быть дан воображением. Требование обязательного неприсутствия воображаемого объекта здесь и теперь Сартр именует «тезисом ирреальности» и заявляет: «Теперь мы можем выявить существенное условие, необходимое для того, чтобы сознание могло воображать: нужно, чтобы у него была возможность полагать тезис ирреальности».4 Таким образом, согласно Сартру, чувственное восприятие и воображение являются взаимоисключающими и взаимодополняющими интуициями. Когда какой-нибудь индивидуальный объект присутствует здесь и теперь, я могу его воспринять чувственно, но не могу вообразить; когда же он здесь и теперь не присутствует, я могу его вообразить, но не могу воспринять при помощи органов ощущений. Неприсутствие объекта здесь и теперь, по Сартру, может быть четверояким. Говоря об акте воображения, французский философ заявляет: «Этот акт может принимать четыре и только четыре формы: он может полагать объект либо как несуществующий, либо как отсутствующий, либо как существующий в другом месте; он может также „нейтрализовать“ себя, то есть не полагать свой объект как существующий».
4 Наст. изд. С. 302–303.
На мой взгляд, сартровская трактовка воображения делает круг воображаемых объектов слишком узким: в него входят, как мне кажется, далеко не все разновидности последних. Рассмотрим этот вопрос подробнее и станем при этом отталкиваться от гуссерлевского учения о структурах сознания.
Согласно Гуссерлю, сознание содержит три разновидности интуитивных актов. Две из них дают индивидуальные интенциональные объекты, точнее, индивидуальную сторону интенциональных объектов. Это — чувственное восприятие и воображение. Третья разновидность интуитивных актов — это рациональная, или эйдетическая, интуиция. Она непосредственно дает универсальные интенциональные объекты, точнее, универсальную сторону любых интенциональных объектов. В соответствии с гуссерлевским учением, интенциональные объекты могут быть чисто универсальными, каковы, например, число, величина, равенство, тождество, подобие, — отрицание, противоречие, конфигурация, причина, следствие, вес, цвет, движение, покой и т. п. Их Гуссерль именует эйдосами. Однако не может быть чисто индивидуальных объектов, ибо всякая индивидуальная вещь является в то же время и экземплификатом множества различных эйдосов. Так, индивидуум Пьер — это в то же время живое существо, человек, француз; он экземплификат еще и многих других универсалий. Кроме интуитивных Гуссерль усматривает в сознании наличие еще и сигнификативных актов. Сигнификативные акты сознания не дают непосредственно интенциональных объектов, они лишь «имеют их в виду», указывают на них через посредство значений слов. Непосредственно сигнификативные акты дают лишь значения слов.
Учение о наличии в сознании интеллектуальной интуиции принимается далеко не всеми философами даже из числа участников феноменологического движения. В «Воображаемом» Сартр тоже не хочет иметь дело с эйдетической интуицией. Почему? Он дает этому ироническое объяснение: «поскольку идея эйдетической интуиции претит многим французским читателям». Анализ текста «Воображаемого» показывает, что все связанное с рассудком, с логикой Сартр в этой книге относит к области сигнификативных актов. (У Гуссерля сигнификативные акты тоже несут рассудочную нагрузку, но лишь в той мере, в какой это связано с апофантикой, т. е. способностью суждения в широком смысле слова; усмотрение же рассудочного в самих объектах Гуссерль препоручает эйдетической интуиции).
Постольку, поскольку Сартр вышеописанным образом относится к рациональной интуиции, мы имеем право оставить ее в стороне и снова сосредоточиться на тех интуициях, каковые дают индивидуальное в объектах, а именно: на чувственном восприятии и воображении.
Если строго придерживаться гуссерлевского тезиса о том, что имеются только две интуиции, способные давать индивидуальное в объектах, то из этого следует, что все то индивидуальное, которое не дается чувственным восприятием, дается воображением. А если так, то круг воображаемых объектов оказывается гораздо более широким, чем тот, которым очертил их Сартр в «Воображаемом». Французский мыслитель трактует воображение слишком узко. Если понимать воображение в смысле, более широком, чем у Сартра, то можно выделить несколько разновидностей этой интуиции.
Прежде всего, воображение бывает производящим и воспроизводящим, или, как чаще говорят, продуктивным и репродуктивным. Деля воображение на продуктивное и репродуктивное, мы сталкиваемся с тем фактом, что оно тесно связано с такой способностью сознания, как память. В самом деле, репродуктивное воображение — это не что иное, как воспоминание. Гуссерль называет репродукцией в собственном смысле слова воспроизведение чего-то уже более или менее давно «хранящегося» в памяти. Немедленное воспроизведение в воображении того, что вот-вот произошло и еще не успело попасть в «кладовые» памяти, родоначальник феноменологии именует ретенцией. Но и ретенция в широком смысле слова тоже имеет репродуктивный характер.
Примером репродукции в гуссерлевском смысле слова может служить воспоминание о концерте, состоявшемся два дня тому назад, или воспоминание о прощании с Пьером, имевшем место два часа тому назад. Воспоминание о знакомой мелодии, независимо от того, когда она была услышана, или о знакомом стихотворении, независимо от того, когда оно было выучено, равно как и воспоминание просто о Пьере или просто об Анне вне зависимости от времени и места общения с ними, — тоже будет примером репродукции. Примером ретенции может служить присутствие в моем сознании только что звучавшего тона мелодии в тот момент, когда я уже слышу следующий тон этой мелодии. Другим примером действия ретенции может служить находящийся в воображении Сартра Пьер, которого он только что воспринимал чувственно, но который, пожав ему руку, успел уже скрыться за дверью.
Хочу еще раз сказать о том, что мы условились иметь дело только с интуициями, дающими индивидуальные объекты. Поэтому, говоря о воспоминании и памяти, мы будем иметь в виду воспоминания индивидуальных объектов и память о них. Это не значит, что память не содержит абстрактных, умозрительных, объектов. Напротив, они в ней в большом количестве имеются и могут быть воспроизведены. К их числу относятся, например, разного уровня общности эйдосы, в том числе различные формулы, решения математических задач и т. п. Однако об особенностях воспоминания такого рода объектов и памяти о них мы здесь ничего говорить не станем в силу того, что Сартр в «Воображаемом» игнорирует наличие — интеллектуальной интуиции.
Что касается продуктивного воображения, то оно делится на два вида. Первый из них — это предвидение будущего, антиципация грядущих событий. Грядущих событий еще не было; поэтому я не могу их вспомнить, воспроизвести в сознании. Но вообразить их я тем не менее могу. Так, например, я могу вообразить ближайшее по времени солнечное затмение, срок которого давно уже предсказан астрологами. Сартр может представить себе завтрашнюю встречу с Пьером, который должен приехать на поезде, прибывающем на вокзал в 19.35. Предвидение грядущих событий не обязательно связано с точным сроком их осуществления. Так, я знаю, что моя жизнь придет к концу, но не знаю, когда именно. Осуществление некоторых событий в будущем можно предвидеть с необходимостью, большинства же — лишь с той или иной степенью вероятности. Так, об очередном солнечном затмении можно сказать, что оно необходимо произойдет, а о завтрашней встрече в 19.35 на вокзале — лишь то, что она вероятна.
Возможность вообразить грядущие события лежит в основе всей нашей практической деятельности. Способность с большей или меньшей степенью правдоподобия предвидеть будущее позволяет нам строить свои жизненные планы и проекты. Продуктивное воображение, возможность придумать нечто, никогда не существовавшее, является необходимым условием как художественного творчества, так и разного рода изобретений. Так, Фидий, прежде чем изваять статую Зевса Олимпийского, имел ее в своем воображении. Если взять более близкий нам по времени пример, то, скажем, А. Эйфель, прежде чем построить знаменитую башню в Париже, создал ее в своем воображении. И Дж. Стефенсон, изобретатель паровоза, сначала имел его в своем воображении и только позже смог увидеть свое изобретение воплощенным в металле.
Гуссерль обращает внимание на одну имеющую существенное значение для его теории внутреннего сознания времени разновидность антиципации, называя ее протенцией. Протенция — это акт воображения того, что должно вот-вот произойти. Допустим, я нахожусь в концертном зале и в данный момент слышу такой-то тон исполняемой оркестром мелодии. При этом в моем воображении уже находится еще не прозвучавший тон, который, развивая данную мелодию, должен последовать за звучащим теперь. Или предположим, что Жан-Поль Сартр играет в теннис (пример из «Воображаемого») и видит, как его противник бьет по мячу ракеткой. Он устремляется к определенной точке площадки, так как в его воображении уже возникла еще не существующая траектория полета мяча, которая должна через мгновение привести мяч в эту точку. И в том и в другом случае мы имеем дело с протенцией.
Вторым видом продуктивного воображения является чистая фантазия. Объекты чистой фантазии, так же как и объекты антиципации, не существовали раньше и не существуют теперь; однако относительно объектов чистой фантазии, в отличие от объектов антиципации, не предполагается, что они могут начать когда-нибудь существовать в будущем. Стандартными примерами чисто фантастических объектов являются кентавр, русалка, химера. Различные совокупности фантастических объектов могут образовывать целые фантастические миры. Таких миров, как известно, придумано великое множество: например, миры многочисленных мифов, романов, произведений научной фантастики. Каждый из этих вымышленных миров имеет свою вымышленную структуру, свои вымышленные время и пространство. Бывают такие фантастические миры, которые состоят только из вымышленных объектов, но имеются и такие, в состав которых входят также и реальные вещи, персонажи, происшествия. Примерами миров последнего рода могут служить исторические романы. Там придуманные их авторами лица и события соседствуют с историческими деятелями и ситуациями. Надо, однако, иметь в виду, что «реальные» персонажи, участвующие в романах, равно как и «реальные» события, описываемые в них, на самом деле не являются реальными людьми и реальными происшествиями: ведь они существуют не в реальных времени и пространстве, а во времени и пространстве соответствующего романа. В романах исторические деятели встречаются, а иногда и запросто беседуют с вымышленными персонажами, что на самом деле невозможно. Поэтому они суть, так сказать, квазиисторические, квазиреальные деятели. В описываемых в романах битвах и других событиях, как правило, участвуют и выдуманные герои этих романов, что делает данные битвы и другие события, упоминающиеся в романах, квазиисторическими. Так, например, в романе Льва Толстого «Война и мир» Андрей Болконский, будучи ранен под Аустерлицем, лежит на поле боя после окончания сражения. Раненого видит Наполеон, со свитой объезжающий поле после сражения. Уже одно это делает Наполеона из романа Толстого по своему онтологическому статусу в корне отличным от исторического Наполеона и приравнивает его в онтологическом отношении к фантастическим объектам. То же самое следует сказать и об Аустерлицком сражении, описанном в романе, и о самом Аустерлице, в этом романе фигурирующем: присутствие князя Андрея делает их в онтологическом плане равноценными ему самому.
Теперь скажем несколько слов о том, как функционируют три интуиции, обнаруженные Гуссерлем в нашем сознании. Все они действуют синхронно. Если внимательно понаблюдать за своим сознанием, то станет ясно, что в каждый момент времени действуют и чувственное восприятие, и воображение, и умозрение. Допустим, что Жан-Поль Сартр пребывает в своей комнате и созерцает находящийся в ней соломенный стул. Одновременно со стулом в его воображении что-нибудь обязательно присутствует, например он представляет себе Пьера, находящегося в Берлине. При этом он может еще и размышлять над какой-нибудь философской проблемой, которая его в данный момент чрезвычайно интересует. Его внимание может быть направлено на соломенный стул, и тогда Пьер и философская проблема окажутся на втором плане. Но оно может быть направлено и на Пьера, тогда на втором плане будут философская проблема и стул. На первом плане может оказаться и философская проблема. Как бы там ни было, но и объект чувственного восприятия, и объект воображения, и объект рациональной интуиции будут находиться в сознании одновременно.
Впрочем, допустим, что внимание сосредоточено полностью на созерцании какого-нибудь одного индивидуального объекта. Пусть, например, я целиком погружен в созерцание дома, который виден из окна моей комнаты. Однако и в этом случае будут задействованы не только чувственное восприятие, но и воображение, и умозрение, они будут направлены на тот же объект, на который направлено чувственное восприятие. В окно я вижу только фасад дома, расположенного на противоположной стороне улицы; воображение и эйдетическая интуиция помогают мне получить целостное представление об этом доме. Чувственное восприятие дает мне его фасад, и тут же репродуктивное воображение дает мне его вид со двора в том случае, если я когда-либо был во дворе этого дома. Если же я там никогда не был, то продуктивное воображение может помочь мне сфантазировать тыловую сторону данного дома. Эйдетическая интуиция показывает мне, что наблюдаемый мною объект относится к виду жилых домов и к роду городских строений, что, имея номер «четыре», он расположен между домами под номерами «два» и «шесть». Допустим еще, что перед моим окном разостлан ковер, а на нем стоит кресло. Я вижу только ту часть узора ковра, которую не заслоняют ножки кресла. Однако либо репродуктивное, либо продуктивное воображение позволяет мне восполнить невоспринимаемые чувственно части узора ковра, и таким образом весь узор оказывается данным мне целиком. Можно привести и другие примеры.
Сравним только что описанную концепцию воображения с сартровской. Ясно, что далеко не все те объекты, которые описанная концепция причисляет к воображаемым, причисляет к — таковым и Сартр. Как мы знаем, одним из требований, которые французский философ предъявляет к объекту воображения, является следующее: такой объект ни в коем случае не должен присутствовать здесь и теперь. Это прежде всего означает, что, с сартровской точки зрения, чувственно не воспринимаемая сторона присутствующих здесь и теперь объектов не может быть дана при помощи воображения, поскольку эта их сторона тоже присутствует здесь и теперь. Сказанное относится, в частности, к невидимой стороне дома, расположенного напротив окна моей комнаты, и к загороженной креслом части узора на ковре. Этого мало: указанное требование препятствует Сартру считать вспоминаемые объекты воображаемыми. И из предвосхищаемых объектов он вынужден считать воображаемыми далеко не все. Французский философ заявляет, что согласно его концепции воображения «проблема памяти и проблема антиципации представляют собой две проблемы, радикально отличные от проблемы воображения».
С точки зрения изложенной нами выше концепции воображения, Сартр довольно-таки произвольно проводит границу между воображаемыми объектами и теми, которые он к числу воображаемых отнести не хочет. Как было отмечено выше, он считает воображаемыми чисто фантастические объекты типа кентавра, а также не вымышленные, но 1) отсутствующие в данное время в данном месте и 2) присутствующие в данное время в другом месте. В качестве иллюстрации двух последних случаев французский философ постоянно приводит Пьера, отсутствующего в данный момент в Париже или, по крайней мере, в той комнате, где живет сам Жан-Поль, и Пьера, находящегося в данный момент в Берлине или Лондоне. Те объекты, которые Сартр считает воображаемыми, он называет ирреальными или подвергшимися «ирреальной модификации».
Однако Пьера, попрощавшегося с Сартром вчера вечером, последний не относит к числу воображаемых и, стало быть, ирреальных объектов. Не относится к их числу и Пьер, который должен прибыть из Берлина в 19.35 и которого нужно встретить на вокзале. И того и другого французский философ считает реальными объектами. Зато приехавший Пьер, которого Жан-Поль представляет себе в будущем живущим в течение неопределенного времени в Париже, снова переходит в разряд ирреальных, воображаемых, объектов.
Не относит Сартр к числу воображаемых и те объекты, которые даются при помощи того, что Гуссерль называет протенцией и ретенцией. Так, предвидение теннисистом траектории полета мяча, посланного его противником, Сартр не считает актом воображения. Не считает он воображаемыми и звуки прослушиваемой мелодии, которые удерживаются в сознании при помощи ретенции.
Позиция Сартра вызывает такой вопрос: если скрытый ножками кресла узор на ковре, если объекты ретенции, репродукции и протенции, а также некоторые объекты антиципации не суть воображаемые объекты, то каким образом, при помощи чего они даются? Ведь при помощи чувственного восприятия они даны быть не могут. Между тем, по Гуссерлю, существуют лишь две интуиции, дающие индивидуальные объекты: чувственная интуиция и воображение. Так что же? Отступить от этой «догмы» Гуссерля и допустить, что помимо этих двух интуиций существуют и другие способы схватывания интенциональных объектов? И Сартр идет на это. Например, он пишет: «Есть, однако, существенная разница между тезисом воспоминания и тезисом образа. Если я пытаюсь припомнить какое-либо событие из своего прошлого, то не воображаю его, а вспоминаю о нем. Это означает, что я полагаю его не как данное отсутствующим, но как данное присутствующим в прошлом. Рука, которую Пьер вчера вечером подал при прощании, оставшись в прошлом, не подверглась никакой ирреальной модификации: она была лишь отправлена в отставку, она всегда остается реальной, но реальной в прошлом. Она существует в прошлом, таков один из способов реального существования». Таким образом, видим, что, согласно Сартру, воспоминание вовсе не является одной из разновидностей воображения, а представляет собой самостоятельную интуицию.
О том, как даются невидимые узоры ковра, французский философ пишет следующее (в его комнате перед окном тоже лежит ковер, а на нем стоит кресло): «Например, ковёрный узор, который я рассматриваю, дан моей интуиции лишь частично. Ножки кресла, которое стоит у окна, скрывают от меня некоторые кривые линии, некоторые рисунки. Однако я схватываю эти скрытые арабески как существующие в настоящий момент, хотя и загороженные от меня креслом, но вовсе не отсутствующие. <…) Я воспринимаю начальные и конечные детали скрытых узоров (которые видны мне спереди и позади ножек кресла) как продолжающиеся под ножками этого кресла. Следовательно, тем же способом, которым я схватываю данное, я полагаю в качестве реального и то, что мне не дано». В другом месте Сартр говорит о такого рода схватываниях объектов, как об интенциях «пустых, но делающих присутствующими» свои объекты. Он приводит в качестве примера Пьера, который дан «как присутствующий или как имеемый в виду», когда его нет в комнате, в которой обитает Жан-Поль, но когда он находится в соседнем помещении, и Жан-Поль слышит «его шаги за дверью».
Все такого рода интуиции подобны чувственному восприятию в том отношении, что дают реальные объекты. Согласно Сартру, только воображение дает ирреальные объекты. По сути дела, ирреальными Сартр именует объекты так или иначе отсутствующие. Определяющей особенностью воображения французский мыслитель считает его способность схватывать отсутствие объекта, его абсолютное или относительное небытие. Он пишет: «Напротив, если я представляю себе Пьера, каким он может быть в этот момент в Берлине, или попросту Пьера, каков он в этот момент (а не каким он был вчера, прощаясь со мной), то я схватываю объект, который или не дан мне вовсе, или же дан именно как находящийся вне пределов моей досягаемости. Тогда я ничего не схватываю, и это значит, что я полагаю ничто. В этом смысле становится понятно, что образное сознание Пьера в Берлине (что он делает в этот момент? — я воображаю, что он прогуливается по Курфюрстендаму и т. д.) гораздо ближе к образному сознанию кентавра (которого я объявляю вовсе не существующим), чем к воспоминанию о Пьере, каким он был в день своего отъезда. Пьера в образе и кентавра в образе объединяет то, что они представляют собой два аспекта небытия».
Чтобы еще больше сблизить воображаемого Пьера с кентавром, Сартр утверждает, что, воображая отсутствующего Пьера, он представляет его пребывающим в некоем несуществующем, ирреальном, мире, в котором ирреально все — в том числе время и пространство. Отсутствующий Пьер, прогуливающийся в воображении Сартра по Курфюрстендаму, осуществляет свою прогулку в ирреальном времени по ирреальному Курфюрстендаму, подобно тому как кентавры в мифическом времени в мифической Фессалии сражались с мифическими лапифами. Таким образом, Сартр утверждает, что воображение подвергает отсутствующего Пьера «ирреальной модификации», помещая его в ирреальное время и пространство, делая его таким же ирреальным, как кентавр. Мы читаем в другом месте «Воображаемого»: «Даже если, вызывая в памяти образ Пьера, я говорю себе: „Жаль, что его здесь нет“, не следует думать, что я делаю различие между Пьером в образе и Пьером из плоти и крови. Есть лишь один Пьер, и Этого-то последнего как раз здесь и нет; не быть здесь — таково его существенное качество: в какой-то момент Пьер оказывается мне дан находящимся на улице Д… то есть отсутствующим. И это свойственное Пьеру от-сутствование, которое я непосредственно воспринимаю и которое конституирует сущностную структуру моего образа, как раз и является тем оттенком, который окрашивает его целиком; именно это мы называем его ирреальностью. Вообще говоря, ирреальна не только сама материя объекта: этой ирреальности причастны все определения пространства и времени, которым он подчинен».
Но правомерно ли сартровское сближение отсутствующих объектов с фантастическими? Мне кажется, что нет. В каждом мифе, романе, драме, в каждом произведении человеческой фантазии действительно фигурируют свои время и пространство, отличные от реальных времени и пространства. Однако когда Сартр представляет себе Пьера, находящегося в настоящий момент в Берлине, в Лондоне или на парижской улице Д… расположенной в трехстах метрах от места жительства Сартра, то, что бы он ни утверждал, он, по-моему, как и все мы в подобных случаях, представляет себе Пьера находящимся в реальном Берлине, в реальном Лондоне и в реальном Париже в настоящий момент реального времени. Герои художественных произведений Гесиода, Софокла, Бальзака, Пруста, самого Сартра — те, действительно, пребывают в ирреальных времени и пространстве, но странно настаивать на том, что Пьер перепрыгнул из реальных времени и пространства в ирреальные, как только уехал в Берлин или просто ушел домой. Вот если бы Сартр заставил своего Пьера побеседовать в Берлине с Францем Биберкопфом, в Лондоне — с мистером Пиквиком, а в Париже — с герцогиней Германтской, то тогда Пьер сделался бы по-настоящему ирреальным и пребывающим в ирреальных времени и пространстве. А так — проводимая Сартром граница между ирреальным и реальным, между тем, что воспринимается при помощи воображения, и тем, что воспринимается иными путями, оказывается весьма искусственной и эфемерной.
В самом деле, допустим, что Пьер вышел в соседнюю комнату и сидит там тихо. В этом случае он является отсутствующим, ирреальным, и может быть воспринят только воображением. Но стоит ему встать со стула, и послышатся его шаги, как он мгновенно станет присутствующим, реальным и будет восприниматься уже не с помощью воображения, а как-то иначе. Находящийся в Берлине и прогуливающийся по Курфюрстендам Пьер ирреален и воображаем, но внезапно раздается телефонный звонок, и Жан-Поль слышит в трубке голос своего друга. Тут же и Пьер, и прогулка по Курфюстендам становятся реальными и начинают восприниматься не при помощи воображения, а каким-то другим способом. Неужели Пьер, тихо сидящий в соседней комнате, и Пьер, расхаживающий по ней, так резко отличаются друг от друга? Неужели Пьер, звонящий по телефону из Берлина, и Пьер, находящийся там, но не телефонирующий, имеют столь различный онтологический статус? Странным и не слишком естественным представляется и то разграничение, которое Сартр делает между «будущим переживаемым и будущим воображаемым»: Пьера, который должен прибыть в Париж завтра в 19.35, он считает реальным, а того же Пьера, который по приезде будет там жить неизвестно сколько времени и неизвестно чем заниматься, он квалифицирует как ирреального и воображаемого.
Уж если Сартр никак не хочет допустить того, чтобы воображение и чувственное восприятие могли функционировать синхронно, если он не хочет допустить того, чтобы индивидуальные объекты могли даваться одновременно и чувственным восприятием, и воображением, то, казалось бы, более естественным было бы для него считать воображаемыми и ирреальными только чисто фантастические объекты, не пристегивая к ним объектов, наличествующих в действительности, но так или иначе отсутствующих. Такой смысл в слова «воображение», «воображаемое» вкладывается нередко. Однако французский мыслитель предпочитает трактовать воображение так, как он его трактует: воображение полагает свой объект как его неприсутствие здесь и теперь.
Частично такое предпочтение можно объяснить тем, что, работая над «Воображением», Сартр уже продумывал свою общефилософскую концепцию, которая нашла свое выражение в «Бытии и ничто». В этом произведении категория «Ничто» является ключевой. В нем Сартр истолковывает все сознание как некое активное Ничто, имеющее силу вносить «инако-вость» в монолитное Бытие-в-себе, «неантизируя» его и разлагая на отдельные вещи. В «Воображаемом» Сартр еще ничего не говорит о «ничтожестве» сознания в целом; в этой книге он имеет дело только с воображением, которое, однако же, рассматривается им как некая «неантизирующая» способность сознания. Предположение о том, что во время написания «Воображаемого» у Сартра уже начала складываться философская концепция работы «Бытие и ничто», подтверждается тем, что в заключении «Воображаемого» помимо термина «неантизация» встречаются и такие понятия, как «ситуация» и «свобода», тоже являющиеся основными в сартровском экзистенциализме.
Завершая рассмотрение данной темы, хочу высказать свое мнение, сводящееся к тому, что противопоставлять воспоминание и антиципацию воображению не годится по существу дела. Гуссерль все-таки прав, когда насчитывает только три дающие интенциональные объекты интуиции: чувственное восприятие, воображение и умозрение. Воспоминание, предвосхищение и чистая фантазия суть лишь разновидности воображения. Ведь ясно, что продукты воспоминания, предвосхищения и фантазии однородны по своей фактуре, резко контрастируя в этом отношении как с продуктами чувственного восприятия, так и с продуктами умозрения. Поэтому будет вполне законно подвести воспоминание, антиципацию и фантазию под одно понятие, в качестве видов одного рода. Другое дело, что термин «воображение» не очень подходит для обозначения данного понятия. С этим я согласен. Но он настолько прочно укоренился в философской и психологической традиции, что пытаться заменить его каким-то другим было бы, пожалуй, неразумно.