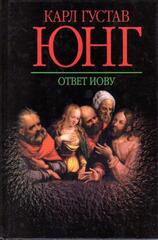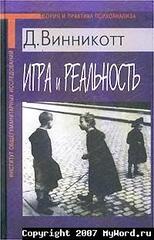Истории о переменах
Спутники
В сказке Асбьернсена и Му4 про Замарашку и добрых помощников рассказывается, как король однажды объявил, что отдаст замуж принцессу и полкоролевства в придачу тому, кто построит такой корабль, на котором можно будет путешествовать по воде, посуху, и по воздуху. Ради такой награды многие захотели попытать счастья, а среди них также братья Замарашки. Они отравились в лес, чтобы строить корабль, но были, наверное, не очень уверены в успехе или старались обмануть конкурентов, потому что, встретив старичка, который спросил их, с чем они пришли, ответили, что пришли делать корыто. Ну, корыто и получилось.
4 Асбьернсен Петер Кристен (1812-1885) — норвежский писатель и фольклорист. Му Йорген Ингебретсен (1813-1882) — норвежский поэт и фольклорист. Совместно издали сборник «Норвежских народных сказок» (1841).
Потом братья устали и решили, что пора бы поесть. Тут снова пришел старичок и спрашивает, что, мол, у вас припасено с собой в дорогу — какая снедь и что из нужных вещей. И братья опять от него утаили, что у них было, то ли из скромности, то ли из жадности, и сказали, что так, мол, всякая дрянь. Ну, дрянь и оказалась. Затем настал черед Замарашки. Он тоже повстречал на дороге старичка, но не побоялся честно сказать правду. Он сказал, что хочет построить корабль, на котором можно путешествовать по воде, посуху и по воздуху. Корабль ему нужно построить для того, чтобы получить принцессу и полкоролевства в придачу.
А когда старичок спросил, что он припас в дорогу, он опять все сказал честно, как есть, не прибедняясь и не хвастаясь, и предложил поделиться со старичком тем, что у него было. За это старичок построил ему корабль, и Замарашка сел на корабль и отправился на нем восвояси. Но он не дождался похвал, прибыв ко двору короля. Король не пошел смотреть корабль, не спросил о его судоходных качествах, о скорости, не поинтересовался никакими техническими данными, он даже не вышел на крыльцо взглянуть на корабль, а смотрел только на Замарашку. Король не выразил восхищения тем, что Замарашка сумел построить такой замечательный корабль, а поглядел на него с презрением, потому что Замарашка был неказист с виду и происходил не из королевского рода.
«Замарашка был черен и вымазан в саже, король не захотел выдавать свою дочь за такого молодца», — говорится в сказке, и я очень сочувствую Замарашке. Потому что в нем я узнаю себя. Я тоже пыталась быть честной и правдивой, когда рассказывала о своих снах, и, не скрываясь, говорила, чего я желаю для себя и для других в будущем, хотя это была безумная цель, и мои шансы были очень невелики. Я так же, не таясь, заявляла о том, что у меня есть, не хвалясь и не прибедняясь. Наверное, мой запас был не слишком велик, но это все же было лучше, чем ничего или чем какая-нибудь дрянь. И в награду я тоже получила свой корабль. Хотя это был не такой чудесный корабль, как тот, что получил Замарашка, но я была вознаграждена упорством, силой воли и надеждой на будущее. А это не такой уж плохой корабль, он не подведет в дальнем плавании. По крайней мере, на нем можно добраться до королевского двора. А вот уж там тебя ждет неминуемая остановка. Ты непременно натыкаешься на какого-нибудь мелкого короля, который не захочет даже взглянуть на твой корабль и даже слушать не желает о твоих планах на дальнейшее путешествие, а видит только твое перемазанное в саже платье и твой диагноз: «Основываясь на твоей истории болезни...», «С твоим диагнозом...», «Не реалистично...», «Невозможно...», «Нежелательно...».
К счастью, Замарашка нашел в пути друзей. Храбрецов, которые, не моргнув глазом, без лишних вопросов сели с ним на его удивительный корабль и приняли его идеи и планы. У каждого из них были различные, чисто индивидуальные качества, каждый сумел внести что-то от себя в проект под названием «воздушный корабль», и участие каждого из них было очень важно и необходимо, чтобы Замарашка мог достичь своей цели.
У меня тоже нашлись свои помощники, каждый со своими особыми качествами и со своим особым вкладом. Поскольку это не сказка, а несколько более сложная действительность, у помощников не всегда оказывалось по одному хорошему качеству. У одних было сразу несколько, у других — одно или два. Кто-то проходил со мной длинный отрезок пути, кто-то оставался совсем недолго. Они не были святыми, а некоторые приносили с собой не очень хорошие вещи — так уж бывает в действительности. Кто-то имел для меня очень большое значение, другие сыграли менее заметную роль. Но все они были для меня важны. Без них мне никогда не удалось бы преодолеть преграду королевских дворов и завоевать себе будущее.
Первый помощник Замарашки был ненасытным едоком мяса. Однако он не отличался привередливостью, и когда не было мяса, поедал булыжники и был этим вполне доволен. Я встречала множество его сестер и, как подсказывает мой опыт, многие из них выбирали специальность трудотерапевтов и аниматоров. Специалисты по трудотерапии, как правило, любят концентрироваться на том, что есть, а не на том, что могло бы быть, и способны радоваться булыжнику, когда нет мяса. Во всех лечебных учреждениях, в которых я побывала, кабинеты трудотерапии функционировали как своего рода оазисы, в которых люди справлялись со своими задачами, в то время как общая атмосфера больницы накладывала на тебя отпечаток неудачника, у которого ничего не получается, который ни на что не способен и ничего не может.
Состояние психоза очень утомительно, и со временем я стала изнемогать под бременем своей неспособности и негодности, от обилия всего, что стало для меня невозможным. Больничные будни представляли собой нагромождение разбитых надежд и разрушенных планов, а психотерапия — будь то психотерапия, нацеленная на изменение, или на тренировку конкретных навыков — естественно и неизбежно отталкивалась от того, что необходимо было изменить. Психотерапия — это изменения, и измениться было для меня насущной потребностью, потому что моя жизнь была так ужасна, что самая возможность ее продолжать зависела от больших изменений. Но меняться было трудным делом. Спустя некоторое время мне ужасно опротивело анализировать все, что я делала, чтобы понять, каким образом то, что мне не удалось, можно было сделать иначе, и что я должна была делать на самом деле.
И тут на сцену выходили трудотерапевты и приглашали меня в мастерские, где ошибки легко было исправить, а требования были конкретными и выполнимыми. Это было здорово, так как мне нравилось работать над трудностями таким образом. В одном месте я занималась керамикой. На тот момент внешняя сторона моей повседневной жизни состояла из интенсивной работы над задачей, как поскорее вернуться в обычный мир, найти место практикантки и решить, смогу ли я сделать еще одну попытку жить за стенами закрытого заведения или мне нужно устраиваться в специализированное общежитие. Психотерапевтический курс, который я тогда проходила, представлял собой целенаправленную и мучительную работу над тем, чтобы снова взять на себя ответственность за собственную жизнь, понять, что у меня есть возможность выбора, что я не беспомощная жертва болезни, горьких переживаний о том, что со мною случилось, и приучить себя к мысли, что ответственность за мое будущее лежит на мне самой. В мастерской изделия иногда разбивались. Они могли треснуть при обжиге, от них отламывался кусочек, когда высохшее, но еще не обожженное изделие было особенно хрупким. Разбитую керамику можно выбросить и начать все заново. Или создать что-то новое из черепков. Ошибки можно исправить. Однажды перед сочельником я как-то вечером несколько часов провозилась, расписывая фарфоровую кружку.
Собираясь прополоскать кисточку, я нечаянно задела кружку, она упала на пол и разбилась. Растерянная, я осталась с осколками в руке. Нетрудно было представить себе, что будет дальше. Но я уже преодолела эту стадию, обратилась за помощью и сказала: «Заберите у меня осколки, пока я себя не порезала. Мне нужно подумать». Чуть позже я попросила, чтобы мне дали разбитую кружку, и мою просьбу выполнили. Некоторые кусочки можно было склеить, донышко вообще осталось целым, больше всего пострадал верх, и я наставила его слоем глины, а по краю слепила двух кошек, которые крадучись ходили по кругу. Когда заготовка высохла, она была расписана и покрыта глазурью. Результат получился совсем неплохой. Даже много лет спустя у меня на столе стояла кружка для карандашей, словно каждодневное напоминание о том, что разбитую вещь так или иначе можно починить, а то, что получится, может оказаться ничуть не хуже того, что было.
Еще до того, как я встретила помощников, которые поверили бы, что измениться — возможно, другие делали сильный акцент на всем, что не возымело действия, причем тогда они напирали на это даже сильней. Мне внушалось, что я должна научиться жить со своими ограничениями, понять, что моя болезнь — хроническая, так что я должна забыть о своих мечтах и сфокусироваться на том, с чем я уже не в состоянии справиться. Не знаю, доводилось ли этим королям на себе проверить правильность своих советов, но сама могу сказать, что для меня не было ничего веселого в том, чтобы фокусировать свое внимание на том факте, что я хроническая сумасшедшая. К счастью, и там была мастерская.
Тут мне никогда не приходилось выслушивать подобные советы. Напротив, мы фокусировали свое внимание на нитках и материи, а если фокусироваться на таких занятиях, которые требовали применения ножниц, иголок или других опасных предметов, было слишком рискованно, то мы концентрировали свое внимание на красках, живописи, лаках, клее, бумаге и росписи деревянных изделий. Я смастерила множество хорошеньких вещиц, а трудотерапевт отнесла эти вещи в регистратуру, куда мне не разрешалось выходить, и устроила небольшой рождественский базар для служащих и посетителей. Вырученные деньги она принесла и предоставила мне самой сделать подсчеты: столько-то за материалы, столько-то остается мне. Возможно, это и не изменило мою жизнь, но подарило мне какую-то каплю нормальности среди будней, сплошь наполненных болезнью. Это было мне очень нужно, и очень меня поддержало.
В отделении острых больных тоже была работа в мастерской, по крайней мере, время от времени, когда находились средства на оплату трудотерапевта, его помощников и покупку материалов. Когда мне удавалось там поработать, это было для меня передышкой от безумия, в мастерской власть голосов была не так сильна, вероятно, потому что мне было там так хорошо. Это не изменяло мою жизнь и не делало меня здоровой, но побыть там иногда и что-то просто поделать руками было очень хорошо. В мастерской прошлое было прошлым, а будущее — будущим, там не было необходимости что-то анализировать и планировать. Можно было порисовать. Или повязать крючком. Или склеить мозаику. Или заняться еще каким-нибудь делом.
Больница часто бывает вся белая. Желтовато-белые стены, белые халаты, белое постельное белье. Я ненавижу белое постельное белье, и, по возможности, стараюсь не спать на белых простынях, потому что они слишком напоминают мне тот мир белизны. Сама я была сплошь серой, будущее было черным, а рядом с окружающей белизной впечатление серого было еще сильней. Зато в мастерской были цвета. И пускай бусины, нитки, краски и мозаика не могли окончательно победить господство серого цвета, они все же напоминали мне о том, что на свете существует и цвет. На короткий промежуток времени, по часу в день, можно было забыть про хаос и просто жить. Жить в простом, конкретном и красочном мире. А когда ты выходила из больницы, тебе, по крайней мере, было, что вспомнить, кроме болезни, и даже было, о чем поговорить. И это тоже очень важно.
Разумеется, не одни только трудотерапевты и аниматоры обладали способностью видеть то, что есть, а не только то, что, якобы должно было быть, и видеть, что среди всего того, что свойственно болезни, остается все же и кое-что здоровое. Одним из таких людей был санитар, который говорил о десяти признаках хорошей новости, другим был доктор, который попросил прощения. Люди, которые, будучи специалистами, оставались при этом людьми, и соглашались и во мне видеть человека. Были сиделки, которые водили меня гулять, или обсуждали со мной другие вещи, кроме болезни, которые давали мне почитать книжки или послушать кассеты, брали меня с собой в кино и вели себя со мной как с нормальным, ходячим человеком даже в самые безнадежные времена. Именно они не старались во что бы то ни стало меня изменить, по крайней мере, не все время, и не действовали исключительно по своему произволу, считая, что пускай мы и сумасшедшие, но коли уж мы сюда попали, то надо с этим что-то делать.
Был, например, один санитар, который во время дежурства в моем изоляторе приносил мне туда кроссворды. Ему было дано распоряжение не разговаривать со мной, не отвечать ни на какие мои вопросы, даже если я спрошу у него, который час или какой сегодня день недели, ибо мне был прописан полный покой. Я просидела там десять недель подряд, я чуть не свихнулась окончательно от такого покоя, ибо в таком количестве покой уже граничит с пыткой, и мечтала о чем угодно другом, только бы не этот покой. Например, о кроссворде. Решать кроссворд — это не значит разговаривать, а ткнуть пальцем в нужное слово — не значит вступать в беседу. Санитарам не запрещалось приносить с собой на дежурство книжки, и большинство так и делало. Некоторые решали кроссворды.
Вся разница была в том, что он приглашал меня порешать кроссворд вместе. Конечно, я не всегда была в состоянии заниматься решением кроссвордов, иногда я бывала так глубоко погружена в свою путаницу, что не могла найти ни одного слова, но все же это было хорошо. В первый день дело не пошло, и он отложил газету в сторону. В следующий раз он снова сделал попытку. Но ведь такова жизнь! Сегодня ты получаешь кусок мяса, иногда вместо мяса — булыжники, а то и вовсе сыпучий песок. Я любила тех помощников, которые понимали, что такова жизнь, и не уходили прочь, когда у меня не было вырезки. Потому что вырезки у меня вообще никогда не бывало.
Следующий, кого встретил на своем пути Замарашка, был человек, который лежал и сосал кран от пивной бочки. У него была такая неутолимая жажда, что он все время хотел пить, а так как бочки у него не было, он довольствовался краном. Этому не нужны были даже камни, ему довольно было сосать ни к чему не приделанный кран. Это внушает мне уважение. Два первых моих терапевта довольствовались тем же самым, и, по-моему, это достойно всяческого восхищения. Они терпели меня год за годом, оставаясь такими же внимательными, такими же заинтересованными, такими же преданными своему делу, хотя в награду за свои старания не получали ни капли. У меня ни разу не наступало ни намека на улучшение, незаметно было развития в каком-либо направлении, единственное, что происходило — это постоянное ухудшение, и, тем не менее, они это выдержали. Они проводили со мной сеансы, ходили на встречи с ответственными лицами, добивались для меня предложений, с которыми я не могла справиться. Несмотря на отсутствие обратной связи, на отсутствие свидетельств о том, что их работа как-то подействовала, они не отбросили пустой кран, не сказали, что хватит, тут, мол, все равно ничего не получится. Нет, они продолжали. Несмотря ни на что.
Самое хорошее для психиатрического, как и для всякого другого, лечебного заведения — это вылечить пациента. Но это не значит, что сохранить жизнь пациента менее важно, даже если пациент не вылечивается. Если бы мне удалось покончить с собой, то все последующие попытки лечения были бы совершенно бесполезны. Когда пациент мертв, надежде приходит конец. Поэтому первый пункт программы — это сохранять людей в живых. И они его выполняли. Они проводили беседу за беседой, назначали одну госпитализацию за другой, они всегда были доступны, как только мне это было нужно, и сохраняли терпение. Год за годом. А если я им и надоедала, они это хорошо скрывали, они проявили великое терпение и выдержку. Это действительно так и было.
Возможно, их ожидания были чересчур заниженными, возможно, они не замечали всех возможностей. Возможно, они тоже были частью негодных систем, в которых не властны были что-либо изменить и только старались умерить их вредоносное действие. Ну, так что же? Я там была, я познакомилась и с ними, и познакомилась с системами. Мир порой бывает невообразимо жесток к пациентам, но и к тем, кто их лечит, тоже. Я знаю, что они делали все, все, что только могли, вкладывая в это всю душу и не отступаясь годами. Может быть, они не смогли сгладить все недостатки системы, но смягчили производимый ими эффект, и, во всяком случае, сохранили меня в живых. Они с таким неослабевающим усердием продолжали сосать кран год за годом, как будто твердо верили, что из него вот-вот польется нектар. И они делали это, хотя так же, как и я, видели, что у крана нет бочки, на которую можно было бы возлагать такие надежды. Они не требовали бочки, а вопреки всему сохраняли надежду. А чего еще, собственно говоря, можно требовать от дорожного спутника?"
Некоторые люди не слышат тебя, даже если ты громко кричишь им в самое ухо. Другие слышат, если ты говоришь отчетливо, ясно, прямо и точно сообщая им, что тебе от них надо. Это хорошо, но во время болезни мне было не до точности и ясности, мое сознание было совершенно спутанным, и мне, кажется, никогда не удавалось высказаться вразумительно. Это изящно формулируется как «нарушение коммуникативных способностей под влиянием психоза». И хотя слышать это ужасно обидно, но на языке науки это действительно отражает истинное положение. Очень трудно высказываться вразумительно, когда голова у тебя точно забита ватой, и ты сама не понимаешь ни своих мыслей и чувств, ни того, что тебе пытаются сказать окружающие.
Третий помощник Замарашки умел так хорошо концентрироваться, что он слышал даже, как трава растет. Я встречала на своем пути нескольких людей, которые умели так хорошо сконцентрироваться, что слышали даже невысказанные мысли. Это люди, настроенные на то, чтобы услышать что-то важное, поэтому они останавливаются и прислушиваются там, где другой просто прошел бы мимо, потому что ведь все равно невозможно услышать, как растет трава или уловить что-то важное в бессмысленном бормотании психически больного человека. Трава растет далеко под ногами, так что нужно прислушиваться очень внимательно, чтобы ее расслышать, кроме того, трава растет очень медленно, так что услышать ее можно только, если не будешь спешить. К сожалению, в нынешнем общественном здравоохранении не принято вслушиваться без спешки, как там растет трава. Туг все должно делаться быстро и эффективно, тут принято учитывать увеличение потока больных, считать количество мест и койко-дней. Борьба с неэффективностью и затягиванием лечения — дело хорошее, а вот подталкивать процессы, которые невозможно ускорить, это уже далеко не так хорошо.
Иногда очередь ожидающих приема в больницу создает такое ощутимое давление, что тем, кто там лежит, приходится несладко. Мои психотерапевты не позволяли себе торопиться. Они были очень терпеливы. Для того, чтобы выздороветь, мне потребовалось много лет и много сеансов, потому что изменение и самопознание — это процесс, идущий изнутри, и его нельзя искусственно ускорить. Два первых психотерапевта не торопили меня и настойчиво продолжали работать со мной даже тогда, когда все выглядело совсем безнадежно. И вот, когда настал срок, я встретила третьего психотерапевта, она дала мне простор для того, чтобы я могла достигнуть законченного развития.
Понимание собственной внутренней жизни и здоровье нельзя дать человеку просто из рук в руки, точно так же, как нельзя вытащить из семечка цветущий подсолнечник. Но подсолнечное семечко не вырастет в бумажном мешочке. Ему нужно пространство, хорошая почва, свет и питание, и тогда оно из маленького семечка превратится в роскошный цветок. Семечку нужны возможности роста и уход. Обеспечить их можно, и мне это обеспечили. На меня было потрачено время, мне дали надежные условия и пространство, и я могла изучать свои симптомы и свои образы в пространстве, где царила обстановка надежности и где меня сопровождали спутники с таким внимательным слухом, что мы вместе слышали, как растет трава. Она вслушивалась, действительно вслушивалась в то, как растет трава, а вместе с ней и я стала прислушиваться, потому что она это позволила и показала мне, что ей желательно, чтобы я прислушалась. И тут я сама услышала, о чем говорит трава, и с ней вдвоем мы наконец-то разобрались, что значат волки и стремление наносить себе физический вред, и Капитан и все остальное. Она не давала мне готовых ответов, но дала почву, на которой я могла вырастить свои собственные. И это было самое лучшее.
Четвертым помощником Замарашки был очень зоркий человек, который мог видеть все от края и до края земли. Когда Замарашка набрел на него, он просто стоял и смотрел, и смотрел вдаль. Представляю себе, какой у него был дурацкий вид! Какой толк в том, чтобы смотреть вдаль на край света? Уж коли высматривать что-то, то лучше выбрать какую-то цель в пределах досягаемости, от которой был бы какой-то прок, цель, которой ты реально можешь достичь. А возможно, и нет. От высматривания чего-то далекого, на краю света, тоже может быть толк, потому что постепенно ты становишься зорче, ты привыкаешь всматриваться внимательнее и прозревать то, что находится далеко.
Однажды я встретила консультантку по социальной адаптации, которая не побоялась заглядывать далеко вперед. Она поверила в мои планы, хотя они и казались довольно безумными, но, проявив здравый смысл, на всякий случай, вместе со мной заготовила спасательную сетку. У меня было несколько психотерапевтов, которые не боялись заглянуть за край света, и делали это как что-то совершенно естественное, словно выполняли самый минимум того, что требуется. Встречала я и еще несколько людей: санитаров, служащих различных учреждений, моего доктора, которые тоже, выпрямив спину и подняв лицо, смотрели вперед и, когда их попросишь, заглядывали гораздо дальше вперед, чем большинство других. Это было важно. Но первыми и главными людьми были для меня члены моей семьи. Мои мама и сестра, которые не желали признавать, что я так уж плоха, и которые при самых худших новостях о моем состоянии продолжали смотреть в будущее.
Каждый раз, когда я уже теряла надежду или пыталась лишить себя жизни, когда я попадала в больницу, не успев выполнить задуманное, или просто переживала очередной кризис, впав в привычное уже состояние психоза, моя сестра только терпеливо вздыхала и говорила: «Ничего, ничего, все это пройдет, все будет хорошо. Я знаю, что ты забрела в какие-то дебри, а теперь еще и зарылась в нору, но это не беда! Ты сделала крюк, но скоро выберешься на прямую дорогу». И так каждый раз. На протяжении почти десяти лет. И несмотря ни на что, сколько бы не случалось таких разочарований, она повторяла одно и то же: «Ничего. Опять ты не туда забрела. Ну, сделала крюк! Ничего, возвращайся назад и иди дальше, в конце концов ты выберешься >. Десять лет! Когда я получила диплом психолога, она приехала из Ставангера в Осло, чтобы убедиться, что я действительно достигла одной из поставленных целей, и чтобы быть со мною в этот знаменательный момент.
В чемодане у нее был рисунок, который она привезла мне. Это была схема пройденной мною дороги со всеми ее ответвлениями и поворотами. Подъем в гору, потом бух в пропасть, в болото, в чащу леса, вверх и вниз, вперед и назад, потом в глубокую шахту и наверх на горку. И в конце — прямо вперед, к цели. Неважно, если ты поблуждал, отклонившись от правильной дороги, главное — прийти, куда нужно, и чтобы хватило духу пройти весь путь до конца. Одной из причин, почему мне хватило духу, было то, что они всегда смотрели вперед и никогда, никогда не позволяли мне предаваться унынию, во всяком случае, больше, чем на одни сутки. И даже если бы я опустила руки, они этого не делали никогда, а всегда говорили только одно: «Ну, подумаешь, сделала крюк! Это поправимо. Возвращайся!» Как же мне было впасть в уныние?
Когда я была в закрытом отделении и мне не давали никаких острых предметов, я много рисовала, потому что для рисования нужны только вода, бумага и кисточка, а эти предметы безопасны. Рисовала я акварелью, потому что акварель обычно не ядовита. Рисунки часто получались унылые, они символически выражали мое самочувствие. Но были среди них и просто картинки. Одна из них изображала цветущую рождественскую звезду на темно-синем фоне. Я рисовала ее для себя, потратила на рисунок много времени, и получилось очень красиво.
Трудотерапевт помог мне сделать для этого рисунка паспарту из черного картона, и мы повесили эту картинку на стену. «Когда-нибудь потом ты закажешь для нее золотую рамочку и повесишь над диваном в своей гостиной», — сказала мама. А ведь она знала, что у меня нет ни дивана, ни комнаты, ни своего дома, нет заработка, и что меня нельзя оставлять в комнате, где есть бьющиеся предметы. Мама посетила несколько занятий на курсах, где ее обучали тому, "какие ожидания реалистичны, а какие нет, но мне кажется, она не очень-то слушала, что там говорят. Сейчас у меня есть и диван, и комната, а в комнате висит моя картинка, там, где сказала мама — над диваном в моей гостиной. И в золотой рамочке. Когда она так сказала, ничего этого не было, а она уже видела. Если ты умеешь заглянуть за край земли, это не так уж и трудно. Она всматривалась так зорко, что разглядела то, чего еще не было. И благодаря тому, что она сумела это разглядеть, появилось больше шансов на то, что все так и сбудется. И все сбылось.
Следующий спутник, которого Замарашка взял с собой на корабль, был такой проворный бегун, что ему приходилось навешивать на ноги семь корабельных лотов, а иначе он улетел бы в поднебесье. Возможно, он и не мог рассмотреть, что делается на краю земли, но зато мог, если нужно, добежать туда и вернуться обратно меньше, чем за пять минут, и его не надо было долго упрашивать. Когда король пожелал к чаю водицы из источника на краю земли, он тотчас же встрепенулся и бегом отправился в путь. В дороге он, правда, однажды уснул, но друзья его разбудили, и он вовремя воротился с водой ко двору короля. Наверное, не все со мной согласятся, если я скажу, что, как мне кажется, он или его родичи служат в государственных и коммунальных учреждениях моего района и других районов страны. Согласно распространенному мнению, в государственных учреждениях сидят твердокаменные бюрократы, которые любят ставить людям препоны, и что в государственных учреждениях дела тянутся долго и медленно и человеческое отношение и эффективность там не живут. Такое мнение не соответствует моему опыту.
Долгие годы я получала возможность ходить на беседы с психологом, и мне это очень помогло. Но эти беседы — по крайней мере, часть из них — никогда бы не состоялись, если бы служащие социальной конторы не поняли важность психотерапии и не согласились оплачивать за меня часть расходов.
Других помощников я встретила в жилищной конторе своей коммуны, они помогли мне получить коммунальный кредит на квартиру, которая дала мне чувство уверенности и пространство, где могло продолжаться мое дальнейшее развитие. Кредит помог мне также выйти на рынок жилья, так как впоследствии я смогла продать эту квартиру, вернуть кредиты, с тем, чтобы в дальнейшем уже решать свои дела самостоятельно в обычных условиях. Этот чиновник дал мне возможность сделать первый шаг на пути моего возвращения в обычный мир.
Другие помощники находились в отделах социальной опеки, они обеспечивали мне постоянную медицинскую поддержку, социальную помощь на дому, специальную сиделку для психиатрических больных и заботились о том, чтобы я получала всевозможную поддержку, когда общение с миром становилось для меня слишком трудным или когда нужно было смягчить невыносимый гнет одиночества. К их числу относятся и некоторые работники этих служб.
Последний спутник, которого Замарашка взял с собой на корабль, был человек, проглотивший пятнадцать зим и семь раз он проглотил лето. Уж не знаю, почему он проглотил именно пятнадцать зим, пятнадцать — нетипичное для сказки число, однако я обратила внимание на то, что по сравнению с летним теплом и майскими ветерками, в нем было вдвое больше холода и зимних бурь. И под конец он спас всю компанию, когда стало по-настоящему жарко, и в этом, как мне кажется, содержится важный смысл. Способность вместить в себе все — это особое свойство, которое не часто можно встретить, но оно имеет очень большое значение. Такого рода людей я встречала не часто, но несколько человек все же встретились на моем пути. Люди, у которых хватает внутренней силы для того, чтобы принимать, переносить и оставаться стойкими перед лицом всех сильных чувств.
Люди, не сгибающиеся перед бурей, способные справиться со злостью, яростью, обидой, горем, стыдом, чувством вины, ревностью, радостью, страхом, тоской и любовью. Люди, которые радостно принимают зимние бури и летнее тепло, и которые могут вместить в душу вдвое больше зимней стужи, чем солнечного света и весеннего дождика. Когда я еще подростком заметила, что меня хочет сожрать дракон, я записала в своем дневнике, что хочу, чего бы это ни стоило, рисовать всеми красками, какие есть в моем наборе. И хотя тогда я еще не знала, чего это будет мне стоить, я уже тогда приняла это решение. К сожалению, со временем я узнала, что даже в здравоохранении находятся люди, несогласные со мной и с Бьернсеном, люди, которые, в отличие от меня считали, что главное — это покой, а не решимость и воля. Они считали, что нельзя рисовать всеми красками. На сильные чувства они отвечали страхом или лекарствами, чтобы с их помощью приглушить слишком резкие краски и превратить кроваво-красный цвет в пастельно-розовый.
Иногда это бывало необходимо сделать на какое-то время для моего же блага, чтобы облегчить боль, которая иначе стала бы непереносимой. Но в долговременном плане это не решает проблемы. Большие чувства могут быть слишком сильными, грубыми, пугающими и даже злыми, но в основе своей они не бывают вредными. Выйдя из-под контроля, они, правда, могут приводить к опасным поступкам, но сами по себе не представляют угрозы. Постепенно я это поняла, и поняла благодаря тем людям, которые не боялись сильных чувств ни в себе, ни в других. Это были люди, способные вместить сильные чувства и удерживать их в себе с тем, чтобы отпустить их на волю тогда, когда они будут у них под контролем, давая им выход понемногу. Они показывали поступками и своим отношением, что чувства — это хорошо, и научили меня рисовать всеми красками так, чтобы у меня получались хорошие картинки, а не какая-нибудь мазня. Это было не просто важно, а имело для меня решающее значение.
Иногда нужно так немного. Одна сиделка в свое вечернее дежурство каждый раз, пока она работала в этом отделении, заходила ко мне в палату и, став посреди комнаты, наклонялась так, что ее корпус оказывался в горизонтальном положении, и стояла на одной ноге, вытянув другую назад и раскинув в стороны руки. В этом положении она, прежде чем выпрямиться, взмахивала несколько раз руками. Когда ее спрашивали, что это она делает, она всегда отвечала одно и то же: «Я пришла полетать для Арнхильд, потому что она мечтает о полетах».
Эта женщина видела мои рисунки, под которыми я написала: «Тоскуют только птицы, которые сидят в клетке. Вольные птицы летают». Она говорила, что мне не хватает полета. Она видела, что я мучаюсь в клетке. Она знала, что я мыслю конкретно, что действия приобретают для меня большое символическое значение. Поэтому она начинала свои вечерние дежурства с полета. Это занимало у нее около одной минуты. За эту минуту она успевала показать мне, что замечает меня, что принимает мои фантазии и мечты, что принимает мой способ выражения и желает помочь мне и поддержать мои мечты.
Я знаю, что психиатрическая помощь переживает сейчас кризис. Я знаю, что перед нами стоят большие и фундаментальные проблемы, которые можно решить только, если вложить в них большие деньги и произвести принципиальные структурные изменения. Я знаю, что многие системы вредны и должны быть перестроены. Но я также знаю, что за деньгами и системами стоят живые люди. Порой люди могут тотально изменить систему. Порой они могут исправлять систему или, по крайней мере, уменьшать вред, наносимый людям этой системой. А порой единственное, что они могут сделать — это взять и полетать. Это может показаться какой-то мелочью.
В длительной перспективе это ничего не меняет. Это может показаться чем-то неважным, незначительным, чем-то таким, в чем нет необходимости. А между тем это было хорошо. Это давало надежду. Эта женщина, наверное, изменила бы систему, если бы это было возможно, но такой возможности тогда не было, и она не могла ее изменить. Зато она могла полетать. И она летала. И я была этому рада.