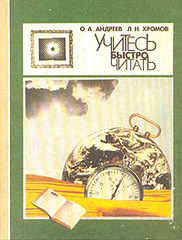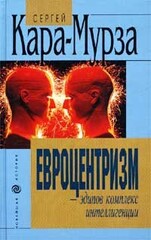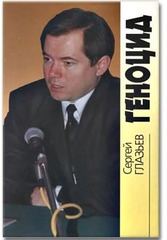Психоаналитические этюды
Сопротивление против психоанализа
Когда грудной ребенок, находясь на руках у няни, с криком отворачивается от незнакомого лица, когда набожный человек начинает новый день молитвой или благословляет плод, который он впервые вкушает в этом году, когда крестьянин отказывается купить косу, на которой нет одобренной его родителями фабричной марки, то различие всех этих ситуаций очевидно, и было бы, по-видимому, правильно искать отдельный мотив для каждой из них.
Однако мы не ошибемся, признав, что в них есть нечто общее. Во всех случаях речь идет об одном и том же неудовольствии, которое находит элементарное выражение у ребенка, искусно замаскировано у набожного человека и является мотивом определенного решения у крестьянина. Источником же этого неудовольствия являются те требования, которые предъявляет к душевной жизни новое, та психическая затрата, которой оно требует, та повышенная неуверенность, которую оно приносит с собой и которая может доходить до ожидания, исполненного страха. Было бы заманчиво сделать эту душевную реакцию на новое предметом особого исследования, так как при некоторых условиях, не являющихся больше примитивными, наблюдается обратное отношение, жажда раздражений, набрасывающаяся на все новое потому только, что оно ново.
В научной области не должно быть места такой боязни нового. В своем вечном несовершенстве и неполноте науке предназначено связывать свое развитие с новыми открытиями и новыми понятиями. Чтобы не быть введенной в заблуждение, она поступает правильно, вооружившись скептицизмом, не принимая ничего нового, не подвергшегося строгой проверке. Но иногда этот скептицизм обнаруживает две неожиданные характерные черты. Он резко ополчается против нового, в то время как почтительно относится и щадит то, что уже известно и заслужило его доверие, и он довольствуется тем, что отбрасывает новое еще прежде, чем исследует его. Но тогда он предстает перед нами как продолжение примитивной реакции на новое, как личина для сохранения ее. Общеизвестно, как часто в истории научного исследования случалось, что открытия встречались сильным и упорным сопротивлением, а дальнейший ход событий показывал затем, что сопротивление не имело никаких оснований, а сделанное открытие было ценно и очень важно. Обычно сопротивление вызывалось некоторыми моментами, связанными с содержанием открытия, а с другой стороны, должны были проявить свое совместное действие некоторые моменты, для того чтобы сделать возможным прорыв примитивной реакции.
Особенно отрицательный прием встретил психоанализ, которому положил начало автор около тридцати лет тому назад в связи с открытиями Брейера в Вене относительно возникновения невротических симптомов. Неоспоримо, что психоанализ носит характер новизны, хотя он помимо сделанных открытий переработал обширный материал, известный уже из других источников: результаты учения великого невропатолога Шарко и данные из области гипнотических феноменов. Его значение было первоначально чисто терапевтическим, он хотел создать новое действенное лечение невротических заболеваний; но соотношения, которых сначала нельзя было предвидеть, позволили психоанализу шагнуть далеко за пределы первоначальной цели. Наконец, психоанализ стал претендовать на то, что он вообще перевел наше понимание душевной жизни на новый базис и поэтому важен для всех научных областей, основанных на психологии После десяти лет полного пренебрежения он стал вдруг предметом всеобщего интереса и вызвал бурю негодующего отрицания.
Я оставляю здесь в стороне вопрос о том, в каких формах нашло себе выражение сопротивление против психоанализа. Достаточно сказать, что борьба за это открытие отнюдь еще не закончена. Тем не менее можно уже сказать, какое направление она примет. Противникам не удалось подавить это движение. Психоанализ, единственным представителем которого я был двадцать лет тому назад, нашел себе многих выдающихся и неутомимых последователей, врачей и неврачей, которые пользовались им как методом лечения нервнобольных, как методом психологического исследования и как вспомогательным средством в научной работе в самых разнообразных областях духовной жизни. Нас интересует лишь мотивировка сопротивления против психоанализа, содержание этого сопротивления и особенно различная ценность его компонентов.
Клиническое исследование должно приблизить неврозы к интоксикациям и таким заболеваниям, как базедова болезнь. Это — состояния, которые возникают вследствие избытка или относительного недостатка определенных весьма активных веществ, независимо от того, образуются ли они в самом организме или вводятся извне, то есть состояния, являющиеся, собственно, нарушениями химизма, токсикозами. Если бы кому-нибудь удалось выделить и доказать наличие гипотетического вещества или веществ при невротических заболеваниях, то его открытие не вызвало бы протеста со стороны врачей. Но пока у нас нет такого пути. Мы можем исходить прежде всего только из симптоматической картины невроза, которая слагается в случае, например, истерии из физических и душевных расстройств. Эксперименты Шарко, равно как и наблюдения Брейера, учат, что и физические симптомы при истерии психогенны, то есть являются осадками протекающих душевных процессов. Путем погружения в гипнотическое состояние можно было по желанию искусственно вызывать соматические симптомы истерии.
Психоанализ воспользовался этим открытием и задался вопросом, какова природа тех психических процессов, которые имеют столь необычные последствия. Но направление этого исследования не отвечало духу современного поколения врачей. Медики были воспитаны в духе исключительно высокой оценки анатомических, физических и химических моментов. К оценке психического они не были подготовлены, то есть они относились к нему безразлично или отрицательно. Они, очевидно, сомневаются в том, что психические факторы вообще допускают точное научное толкование. В чрезмерной реакции на оставленную позади, отвергнутую фазу, когда в медицине господствовали воззрения так называемой натурфилософии, абстракции, подобные тем, которыми должна оперировать психология, показались им туманными, фантастическими, мистическими; поразительных феноменов, которые должны были бы стать предметом исследования, они просто не признавали. Симптомы истерического невроза считались результатом симуляции, а гипнотические явления надувательством. Даже психиатры, которые неизбежно должны были наблюдать самые необычные и самые удивительные душевные феномены, не проявляли склонности вникать в детали этих феноменов и доискиваться их смысла. Они удовольствовались классификацией разнообразных болезненных проявлений и выводили их там, где была малейшая возможность за что-либо ухватиться, из соматических, анатомических и химических расстройств. В этот материалистический, или, лучше говоря, механистический, период медицина сделала колоссальные успехи, но вместе с тем она в близорукости своей проглядела самые важные и самые трудные проблемы жизни.
Понятно, что при такой установке в отношении к психическому медики не нашли ничего хорошего в психоанализе и не захотели исполнить его требование: переоценить многое и видеть некоторые вещи в ином свете. Можно было бы думать, что именно поэтому новое учение встретит одобрение со стороны философа. Ведь они уже привыкли ставить во главу угла своего миропонимания абстрактные понятия (правда, злые языки говорят — не поддающиеся определению понятия), и нельзя было предполагать, чтобы они чинили препятствия расширению области психологии, какое предпринял психоанализ. Но тут возникло другое препятствие. Психическое философов не соответствовало психическому психоанализа. Подавляющее большинство философов называет психическим лишь то, что является феноменом сознания. Для них мир сознательного покрывается объемом психического. Все остальное, происходящее в трудно постигаемой «душе», они относят к органическим предпосылкам или параллельным процессам психического. Или, точнее говоря, душа не имеет никакого другого содержания, кроме феноменов сознания, следовательно, и наука о душе, психология, не имеет никакого другого объекта. Точно так же думает и профан.
Итак, что может сказать философ по поводу учения, которое подобно психоанализу утверждает, что душевное само по себе скорее бессознательно, что сознание является лишь качеством, которое может присоединиться или не присоединиться к отдельному душевному акту и которое иногда ничего не изменяет в нем, если оно не наступает? Разумеется, философ говорит, что бессознательное душевное — это небылица, contradictio in adjecto, и не хочет заметить, что этим суждением он повторяет лишь свое собственное — быть может, слишком узкое — определение душевного. Философ легко приобретает уверенность в этом своем суждении, так как он незнаком с материалом, изучение которого заставило аналитика поверить в существование бессознательных душевных актов. Он не принял во внимание гипноза, не занимался толкованием сновидений — он, наоборот, считал, подобно врачу, сновидения бессмысленным продуктом пониженной во время сна душевной деятельности, – он едва ли знает о том, что есть такие вещи, как навязчивые представления и бредовые идеи, и был бы весьма смущен, если бы от него потребовали объяснить их, исходя из его психологических предпосылок. Аналитик тоже не может сказать, что такое бессознательное, но он может указать на область тех проявлений, наблюдение которых заставило его предположить существование бессознательного. Философ, который не знает другого вида наблюдения, кроме самонаблюдения, не мог последовать за ним в этом отношении. Таким образом, среднее место, занимаемое психоанализом между медициной и философией, оказалось только невыгодным для него. Медик считает его спекулятивной системой и не хочет поверить в то, что он, подобно всякой естественной науке, основан на терпеливой и многотрудной обработке фактов из мира восприятий; философ же, измеряющий его масштабом своих собственных искусственно состроенных системных образований, считает, что он исходит из несуществующих предпосылок, и упрекает его в том, что его самые основные понятия, находящиеся еще в стадии развития, лишены ясности и точности.
Вышеуказанные соотношения достаточны для того, чтобы объяснить недоброжелательный и отрицательный прием, встреченный анализом в научных кругах. Но они не объясняют тех взрывов негодования, насмешек и оскорблений, того пренебрежения всеми правилами логики и такта, которое имело место в полемике. Такая реакция указывает на то, что здесь возникло не только чисто интеллектуальное сопротивление, что к жизни были вызваны сильные аффективные факторы; и действительно, в содержании психоаналитического учения есть многое, чему следует приписать такое воздействие на страсти всех людей, а не одних только научных работников.
Это прежде всего то большое значение, которое психоанализ отводит в душевной жизни человека так называемым сексуальным влечениям. Согласно психоаналитической теории симптомы неврозов являются искаженными заместительными удовлетворениями сексуальных влечений, которые в силу внутренних сопротивлений не могут получить непосредственного удовлетворения. Впоследствии, когда анализ вышел за пределы той области, в которой он первоначально начал свою работу, и обратился к нормальной душевной жизни, он старался показать, что те же самые сексуальные компоненты, которые могут быть отвлечены от своих ближайших целей и направлены на другие цели, составляют важнейший вклад в культурные достижения индивида и общества. Эти утверждения были не совсем новы. Философ Шопенгауэр в неизгладимых по силе словах отметил ни с чем не сравнимое значение сексуальной жизни; точно так же то, что психоанализ называет сексуальностью, отнюдь не покрывается стремлением к соединению разных полов или получением удовольствия от связанной с гениталиями деятельности, а стоит гораздо ближе к всеобъемлющему и всесохраняющему Эросу Платона.
Однако противники забывают об этих знаменитых предшественниках; они нападают на психоанализ так, как если бы он совершил тяжкое покушение на честь рода человеческого. Они упрекали его в «пансексуализме», хотя психоаналитическое учение о влечениях всегда было строго дуалистическим и никогда не упускало случая отметить наряду с сексуальными влечениями существование других влечений, которым оно даже приписывало силу для подавления сексуальных влечений. Сначала противополагались сексуальные влечения и влечения «Я», которые в дальнейшем развитии теории превратились в противоположность между эросом и влечением к смерти или разрушению. Указание на участие сексуальных влечений в искусстве, религии, социальном устройстве было воспринято как унижение величайших культурных ценностей, и тогда с особенным ударением было провозглашено, что у человека есть еще и другие интересы, кроме сексуальных. Но при этом противники психоанализа в усердии своем проглядели, что и у животного есть другие интересы: оно подвержено сексуальности лишь в определенные периоды времени, а не перманентно, подобно человеку, что наличие этих других интересов у человека никогда не оспаривалось и что указание на происхождение из элементарных животных источников не могло понизить ценность культурного приобретения.
Такая нелогичность и несправедливость требуют своего объяснения. Их основу найти нетрудно. Человеческая культура зиждется на двух началах: на овладении силами природы и на ограничении наших влечений. Скованные рабы несут трон властительницы. Среди побежденных, таким образом, компонентов влечений выделяются силой и дикостью компоненты сексуальных влечений — в более узком смысле. Горе, если бы они были освобождены: трон был бы опрокинут, властительница была бы попрана. Общество знает это и не хочет, чтоб об этом говорилось.
Но почему же нельзя говорить об этом? Какой вред может принести обсуждение? Психоанализ никогда не замолвил ни одного слова в пользу раскрепощения наших общественно вредных влечений; наоборот, он предостерегал и призывал к улучшению людей, но общество не хочет слышать ничего об открытии этих соотношений, так как его совесть нечиста во многих направлениях. Во-первых, оно создало высокий идеал нравственности (нравственность — это ограничение влечений), осуществления которого оно требует от каждого из своих членов, не заботясь о том, насколько трудно дается это послушание каждому в отдельности. Но вместе с тем оно не настолько богато или не настолько хорошо организовано, чтоб оно могло вознаграждать каждого индивида соответственно размерам его отказа от удовлетворения влечений. Таким образом, общество предоставляет индивиду решение вопроса о том, каким путем он может получить достаточную компенсацию за принесенную им жертву, чтобы сохранить душевное равновесие. Но в общем он вынужден психологически жить вне своих возможностей, так как его неудовлетворенные влечения заставляют его ощущать культурные требования как постоянный гнет. Таким образом, общество поддерживает состояние культурного лицемерия, которому должны быть присущи чувство неуверенности и потребность защитить свою очевидную лабильность запретом критики и дискуссии. Это относится ко всем влечениям, а следовательно, также и к эгоистическим; вопрос о том, насколько это положение применимо ко всем культурам (а не только к развившимся до настоящего времени), не может быть исследован здесь. А в отношении к сексуальным — в более узком смысле — влечениям присоединяется еще то обстоятельство, что у большинства людей они подавлены недостаточно и психологически неправильно, так что они более всех готовы прорваться.
Психоанализ вскрывает слабость этой системы и призывает к изменению ее. Он предлагает ослабить строгость вытеснения влечений и отвести вместо этого больше места правдивости. Некоторые побуждения влечений, в подавлении которых общество зашло слишком далеко, должны быть в большей мере допущены к удовлетворению; при других побуждениях нецелесообразный метод подавления с помощью вытеснения должен быть заменен более удачным и верным методом. Вследствие этой критики психоанализ был воспринят как «враждебное культуре учение» и предан анафеме «как социальная опасность». Этому сопротивлению не суждено длиться вечно; ни один человеческий институт не может надолго ускользнуть от влияния справедливого критического рассмотрения, но до настоящего времени установка людей в отношении к психоанализу все еще одержима этим страхом, который разжигает страсти и отбрасывает требование логической аргументации.
Своим учением о влечениях психоанализ оскорбил индивида, поскольку он чувствовал себя сочленом социального общества; другая часть аналитической теории могла оскорбить каждого индивида в наиболее чувствительном пункте его собственного психического развития. Психоанализ положил конец сказке об асексуальном детстве; он показал, что сексуальные интересы и сексуальная деятельность существуют у маленьких детей с самого начала их жизни; он указал, какие превращения они претерпевают, как они в возрасте приблизительно около пяти лет подлежат задержке, а в период зрелости опять выявляются для обслуживания функции размножения. Психоанализ признал, что сексуальная жизнь раннего детства достигает своего наивысшего развития в так называемом Эдиповом комплексе, в эмоциональной привязанности к родителю противоположного пола с сопернической установкой в отношении к родителю своего же пола; это стремление проявляется в этот жизненный период еще без задержек в непосредственном сексуальном желании. В этом настолько легко удостовериться, что действительно нужно большое напряжение сил, чтобы проглядеть его. В действительности каждый индивид проделал эту фазу, но затем энергично вытеснил ее содержание и предал ее забвению. Боязнь инцеста и сильное чувство виновности явились остатками этого индивидуального доисторического периода. Быть может, в общем доисторическом периоде рода человеческого дело обстояло таким же образом, и начала нравственности, религии и социального устройства были теснейшим образом связаны с преодолением этого первобытного времени. Ничто не должно напоминать потом взрослому об этом доисторическом периоде, который кажется ему впоследствии столь бесславным; он начинает неистовствовать, когда психоанализ пытается приподнять завесу амнезии с его детских лет. Тогда оставался только один выход: все, что утверждает психоанализ, ложно, и эта новая якобы наука является хитросплетением, состоящим из фантазий и искажений.
Таким образом, сопротивления против психоанализа были не интеллектуальной природы, а проистекали из аффективных источников. Этим объясняется их страстность и логическая недостаточность. Эта ситуация укладывается в простую формулу: люди в массе относятся к психоанализу так, как к нему относится в отдельности невротик, который лечится по поводу своих расстройств и которому с помощью терпеливой работы удалось показать, что все произошло именно так, как утверждал психоанализ. Ведь психоанализ не сам выдумал это, а узнал при изучении других невротиков в течение нескольких десятилетий. В этой ситуации есть одновременно и нечто пугающее, и нечто утешительное, первое — потому, что иметь в качестве пациента весь род людской — это не шутка; второе — потому, что в конце концов все произошло именно так, как оно должно было случиться согласно предположениям психоанализа.
Если бросить еще раз взгляд на вышеописанные сопротивления против психоанализа, то нужно сказать, что лишь небольшая часть их имеет характер сопротивления, которое обычно возникает против большинства научных новшеств, имеющих некоторое значение. Большая часть их проистекает оттого, что сильные чувства человечества были оскорблены содержанием учения. То же самое испытала дарвиновская теория происхождения, разрушившая созданную высокомерием стену, которая отделяла человека от животного. Я указал на эту аналогию в одной короткой статье («Трудность на пути психоанализа») [7] . Я указал там, что психоаналитическое учение о соотношении между сознательным «Я» и гораздо более сильным бессознательным означало тяжелый удар по человеческому самолюбию, который я назвал психологическим и присоединил к биологическому удару, нанесенному учением о происхождении человека, и к более раннему космологическому, нанесенному открытием Коперника.
Чисто внешние трудности способствовали усилению сопротивления против психоанализа. Нелегко получить свое собственное суждение в вопросах анализа, если не испытать его на самом себе и на других. Последнее невозможно без знания определенной, весьма трудной техники, а до последнего времени изучение психоанализа и его техники было недоступно. В настоящее время положение дел изменилось к лучшему благодаря основанию Берлинской психоаналитической поликлиники и института (1920). Вскоре после этого (1923) в Вене был призван к жизни подобный же институт.
Наконец, автор должен в очень сдержанной форме поставить вопрос о том, не способствовало ли отрицательному отношению к психоанализу то обстоятельство, что сам он был евреем, который никогда не скрывал своего еврейского происхождения. Аргументы подобного рода высказываются вслух лишь в очень редких случаях; к сожалению, мы стали настолько недоверчивы, что вынуждены предположить, что это обстоятельство не осталось без внимания. Быть может, не простая случайность, что первый представитель психоанализа был евреем. Для того чтобы приобщиться к психоанализу, нужна была порядочная степень готовности примириться с участью одиночества в оппозиции, с участью, которая еврею ближе, чем кому-нибудь другому.
Невроз и психоз
В моей недавно вышедшей в свет работе «Я и Оно» я указал на расчленение душевного аппарата; на основе этого расчленения можно в простой и наглядной форме изложить целый ряд соотношений. В других пунктах, касающихся, например, происхождения и роли «сверх-Я», остается еще много неясного и неисчерпанного. Можно потребовать, чтобы такое построение оказалось применимым к другим вопросам и способствовало разрешению их даже в том случае, если бы речь шла только о том, чтобы рассмотреть уже известное в новом понимании, иначе сгруппировать его и описать в более убедительной форме. С таким применением мог бы быть также связан выгодный возврат от седой теории к вечно юному опыту.
В вышеуказанной работе описаны многочисленные зависимости «Я», его посредническая роль между внешним миром и «Оно» и его стремление угодить одновременно всем своим господам. В связи с возникшим, с другой стороны, ходом мыслей, обсуждавшим возникновение и предупреждение психозов, я получил в результате простую формулу, выражающую, пожалуй, самую важную генетическую разницу между неврозом и психозом: невроз является конфликтом между «Я» и «Оно», психоз же является аналогичным исходом такого нарушения во взаимоотношениях между «Я» и внешним миром.
Конечно, мы поступим правильно, отнесясь недоверчиво к такому простому разрешению проблемы. Точно так же наше ожидание идет не дальше того, что эта формула в лучшем случае окажется верной лишь в самых грубых чертах. Но и это было бы уже кое-каким достижением. Мы тотчас же вспоминаем о целом ряде взглядов и открытий, подкрепляющих, по-видимому, наше положение. Согласно данным всех наших анализов, неврозы перенесения возникают благодаря тому, что «Я» не хочет воспринять мощного побуждения влечений, существующих в «Оно», и не хочет оказать содействия моторному отреагированию этого побуждения, или же это побуждение неприемлемо для объекта, который оно имеет в виду. «Я» защищается от него с помощью механизма вытеснения; вытесненное восстает против своей участи и, пользуясь путями, над которыми «Я» не имеет никакой власти, создает себе заместительное образование, которое навязывается «Я» путем компромиссов, то есть симптом. «Я» находит, что этот непрошеный гость угрожает и нарушает его единство, продолжает борьбу против симптома подобно тому, как оно защищалось от первоначального побуждения влечений, и все это дает в результате картину невроза. Возражением этому не может служить указание на то, что «Я», предпринимая вытеснение, следует, в сущности, велениям своего «сверх-Я», происходящим опять-таки из таких влияний реального внешнего мира, которые нашли свое представительство в «сверх-Я». Однако при этом получается, что «Я» было на стороне этих сил, что их требования были в «Я» сильнее требований влечений, присущих «Оно», и что является той силой, которая осуществляет вытеснение соответствующей части «Оно» и укрепляет противоактивность сопротивления. Обслуживая «сверх-Я» и реальность, «Я» попало в конфликт с «Оно»; таково положение вещей при всех неврозах перенесения.
С другой стороны, нам так же легко будет, следуя существующему у нас до настоящего времени взгляду на механизм психозов, привести примеры, указывающие на нарушение соотношений между «Я» и внешним миром. При аменции Мейнерта, острой галлюцинаторной спутанности, самой крайней, пожалуй, и самой яркой форме психоза, внешний мир либо вовсе не воспринимается, либо восприятие его остается без всякого действия. В нормальном случае внешний мир господствует над «Я» двумя путями: во-первых, путем все новых и новых, по возможности актуальных восприятий, во-вторых, путем сокровищницы воспоминаний прежних восприятий, образующих в виде «внутреннего мира» собственность и составную часть «Я». При аменции становится невозможным не только получение внешних восприятий; внутренний мир, являвшийся до сих пор заместителем внешнего мира в виде отображения его, лишается своего значения (активности); «Я» создает себе совершенно независимо новый внешний и внутренний мир, и два факта указывают с несомненностью на то, что этот новый мир построен в духе желаний, исходящих от «Оно», и что тяжелый, оказывающийся невыносимым отказ от желаний, связанных с реальностью, является мотивом этого разрыва с внешним миром. Нельзя не заметить внутреннего родства этого психоза с нормальным сновидением. Но условием для сновидения является состояние сна, к характерным чертам которого относится полный уход от восприятия и от внешнего мира.
О других формах психозов, о шизофрениях, известно, что они имеют исходом аффективную тупость, то есть они приводят к отказу от участия во внешнем мире. Относительно генезиса бредовых образований некоторые анализы показали нам, что мы находим бред в виде заплаты, наложенной на то место, где первоначально возник надрыв в отношениях «Я» к внешнему миру. Если существование конфликта с внешним миром не бросается в глаза гораздо больше, чем мы это знаем в настоящее время, то это имеет свое основание в том факте, что в картине психоза проявления патогенного процесса часто покрываются проявлениями попытки к излечению или к реконструкции.
Общим этиологическим условием для прорыва психоневроза или психоза остается всегда отказ, неисполнение одного из тех непреодолимых желаний детства, которые коренятся так глубоко в нашей филогенетически определенной организации. В конечном счете этот отказ всегда внешний, в отдельном случае он может исходить от той внутренней инстанции, которая взяла на себя защиту требований реальности. Патогенный эффект зависит от того, остается ли «Я» при таком конфликтном разногласии верным своей зависимости от внешнего мира и пытается ли «Я» заглушить «Оно», или же «Оно» побеждает «Я» и отрывает его таким образом от реальности. Но это простое на первый взгляд положение вещей усложняется существованием «сверх-Я», объединяющего в себе в какой-то еще неразгаданной связи влияния, исходящие из «Оно» и из внешнего мира, являющегося до некоторой степени идеальным прототипом того, на что направлены все стремления «Я», то есть на освобождение его от многочисленных зависимостей. При всех формах психического заболевания нужно было бы принять во внимание поведение «сверх-Я», что до настоящего времени не имело места Но мы можем а priori постулировать, что оно тоже должно давать болезненные раздражения, в основе которых лежит конфликт между «Я» и «сверх-Я». Анализ дает нам право предположить, что меланхолия является типичным примером этой группы, и мы обозначаем такие нарушения термином «нарцистические неврозы». Найдя мотивы для обособления таких состояний, как меланхолия, от других психозов, мы не пойдем вразрез с нашими впечатлениями. Но тогда мы замечаем, что мы можем дополнить нашу простую генетическую формулу, не отказываясь от нее. Невроз перенесения соответствует конфликту между «Я» и «Оно», нарцистический невроз — конфликту между «Я» и «сверх-Я», а психоз — конфликту между «Я» и внешним миром. Конечно, мы наперед не можем сказать, действительно ли мы получили нечто новое или же только увеличили число наших формул, но я полагаю, что возможность применения этой формулы должна дать нам все-таки смелость проследить дальше предложенное подразделение душевного аппарата на «Я», «сверх-Я» и «Оно».
Утверждение, что неврозы и психозы возникают вследствие конфликта «Я» с различными господствующими инстанциями, то есть что они соответствуют недочету в функции «Я» (а недочет этот сказывается в стремлении примирить все эти различные требования), – утверждение это должно быть дополнено другим рассуждением. Желательно было бы знать, при каких обстоятельствах и какими путями «Я» удается избежать заболевания при таких всегда, разумеется, существующих конфликтах. Это — новая область для исследования, в которой должны быть, конечно, приняты во внимание самые разнообразные факторы. Однако два момента могут быть тотчас же отмечены. Исход таких ситуаций будет, несомненно, зависеть от экономических соотношений, от относительной величины борющихся друг с другом стремлений. И далее: «Я» сможет избежать прорыва в каком-нибудь месте благодаря тому, что оно само деформирует себя, наносит ущерб своему единству. Благодаря этому непоследовательность, странность, глупость людей выступают в таком же свете, как и сексуальные их перверсии.
В заключение следует поставить вопрос о том, каков может быть аналогичный вытеснению механизм, с помощью которого «Я» освобождается от внешнего мира. Я полагаю, что на этот вопрос невозможно ответить без нового исследования, но содержанием его, как и вытеснения, должно быть отнятие исходящей от «Я» активности.