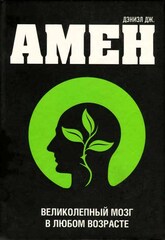Тысячеликий герой
Джозеф КэмпбеллКнига Кэмпбелла — классическое исследование мифологии на основе психоанализа, дающего ключ к тайнам языка символов, общего для мифов всех мировых культур с их архетипическим героем.
Переходя от психологической плоскости анализа к метафизической, Кэмпбелл представляет героическое путешествие как космогонический цикл. Пройдя через испытания инициации, преодолев порог между бытием и ничто, герой как воплощение микрокосма и макрокосма растворяется в Высшей Самости, тем самым завершая свою путь.
Оглавление
- Миф в современном мире
- Предисловие
- ПРОЛОГ. МОНОМИФ
- 1. Миф и сновидение
- 2. Трагедия и комедия
- 3. Герой и бог
- 4. Центр Мироздания
- Примечания
- ЧАСТЬ I. СТРАНСТВИЯ ГЕРОЯ
- ГЛАВА I. ИСХОД
- 1. Зов к странствиям
- 2. Отвержение зова
- 3. Сверхъестественное покровительство
- 4. Преодоление первого порога
- 5. Во чреве кита
- Примечания
- ГЛАВА II. ИНИЦИАЦИЯ
- 1. Путь испытаний
- 2. Встреча с Богиней
- 3. Женщина как искусительница
- 4. Примирение с отцом
- 5. Апофеоз
- 6. Вознаграждение в конце пути
- Примечания
- ГЛАВА III. ВОЗВРАЩЕНИЕ
- 1. Отказ от возвращения
- 2. Волшебное бегство
- 3. Спасение извне
- 4. Пересечение порога, ведущего в мир повседневности
- 5. Властелин двух миров
- 6. Свобода жить
- Примечания
- ГЛАВА IV. КЛЮЧИ
- Примечания
- ЧАСТЬ II. КОСМОГОНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
- ГЛАВА I. ЭМАНАЦИИ
- 1. От психологии к метафизике
- 2. Вселенский круг
- 3. Пустота, порождающая пространство
- 4. Пространство, несущее в себе жизнь
- 5. Распад единства в многообразие
- 6. Народная мифология о Творении[52]
- Примечания
- ГЛАВА II. НЕПОРОЧНОЕ ЗАЧАТИЕ
- 1. Мать Вселенная
- 2. Предопределенность
- 3. Лоно Спасения
- 4. Народная мифология о непорочном зачатии
- Примечания
- ГЛАВА III. МЕТАМОРФОЗЫ ГЕРОЯ
- 1. Исконный герой и человек
- 2. Детство человека — героя
- 3. Герой как воин
- 4. Герой как любовник
- 5. Герой как правитель и тиран
- 6. Герой как Спаситель
- 7. Герой как святой
- 8. Уход героя
- Примечания
- ГЛАВА IV. РАСТВОРЕНИЕ
- 1. Конец микрокосма
- 2. Конец макрокосма
- Примечания
- ЭПИЛОГ. МИФ И ОБЩЕСТВО
- 1. Многоликий Протей
- 2. Функции мифа, культа и медитации
- 3. Герой нашего времени
- СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ